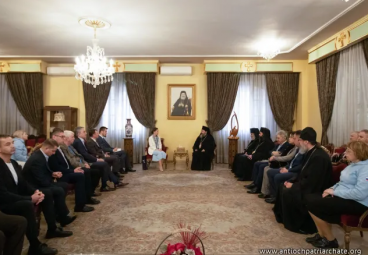1
Сам автор так писал об этом в письме к Ольге Фрейденберг 13 октября 1946 года: «…эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется „Мальчики и девочки“. Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности. Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным».
В карандашной рукописи романа «Доктор Живаго» автор писал: «Все эти мальчики и девочки нахватались Достоевского, Соловьева, социализма, толстовства, ницшеанства и новейшей поэзии. Это перемешалось у них в кучу и уживается рядом. Но они совершенно правы. Все это приблизительно одно и то же и составляет нашу современность, главная особенность которой та, что она является новой, необычайно свежей фазой христианства».
Далее в первоначальной рукописи было сказано подробней:
«Наше время заново поняло ту сторону Евангелия… которую издавна лучше всего почувствовали и выразили художники. Она была сильна у апостолов и потом исчезла у отцов, в церкви, морали и политике. О ней горячо и живо напомнил Франциск Ассизский, и ее некоторыми чертами отчасти повторило рыцарство. И вот ее веянье очень сильно в девятнадцатом веке. Это тот дух Евангелия, во имя которого Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. Это мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна».
Борис Леонидович Пастернак. 1942 г.
Содержание
О Б. Пастернаке
Литературоведческие обзоры творчества Б. Пастернака
стр. 3 О христианских мотивах в творчестве Б. Л. Пастернака. Иеромонах Иов (Гумеров)
стр. 4 Интермедиальные связи стихотворений Б. Л. Пастернака «Рождественская звезда» и «Магдалина» с произведениями изобразительного искусства. И. А. Суханова
стр. 5 Интермедиальные связи стихотворений Б. Л. Пастернака «Чудо», «Дурные дни» и «Гефсиманский сад» с произведениями изобразительного искусства. И. А. Суханова
стр. 6 Христианские мотивы в «Стихах из романа». Архиепископ Нафанаил (Львов)
стр. 7 «Рождественская звезда» Бориса Пастернака: поэзия и живопись. Стефано Гардзонио
К 120-летию со дня рождения Бориса Пастернака
Интервью с Евгением Борисовичем и Еленой Владимировной Пастернак
«Блаженны изгнанные правды ради…» (Мф. 5:10)
Евгений Борисович и его жена Елена Владимировна на протяжении многих лет не только ведут кропотливую работу над большинством изданий Бориса Пастернака, не только занимаются текстологией, комментированием и работой с архивными материалами, но сами являются авторами многих филологических исследований.
Именно с их помощью русские читатели впервые познакомились с романом «Доктор Живаго», именно их силами впервые вышли в свет книги писем Пастернака и многие его поэтические и прозаические сборники. Перу Евгения Борисовича принадлежит монументальное исследование, посвященное жизни и творчеству поэта «Борис Пастернак. Биография» (1997), которое создано на основе документов, писем, воспоминаний современников. Драгоценным подарком Елены Владимировны и Евгения Борисовича стало также недавно вышедшее 11-томное полное собрание сочинений Б. Пастернака – плод их многолетнего труда.
– Когда я окончил школу, то выбирать какую-либо профессию, связанную с литературой или гуманитарными науками, было нельзя. Идти на филфак или на исторический – значило обрекать себя на постоянную ложь, поэтому особенного выбора у меня не было, и я поступил на физический факультет. Но там я проучился только полкурса, а дальнейшее мое образование (шел 1941-й год) проходило уже в Военной Академии, которую я закончил, получив диплом инженера-механика. На этой должности я был человеком подневольным: на протяжении всей службы приходилось ремонтировать военные автомобили и танки, и лишь в 1954 году, когда Н. С. Хрущев начал сокращать вооруженные силы, появилась возможность уйти из армии.
С большими усилиями и риском я, наконец, выпросился на волю и вернулся в Москву. Здесь я стал преподавать в Московском энергетическом институте, занимаясь теорией и системами автоматического управления. Это продолжалось до тех пор, пока папа был жив. Никакого вмешательства в свои дела он не допускал, а когда его не стало, то я стал заниматься корректурой его переводов; и первые оригинальные книги, среди которых был сборник 1965 года, вышедший в большой серии «Библиотеки поэта», вычитывали и готовили к печати уже мы с Аленушкой.
Постепенно это стало нашим основным занятием, поскольку такая работа повлекла за собой и погружение в биографию, и комментирование, и сбор всяких черновиков и вариантов, которые тогда можно было найти у еще живых папиных друзей. Эти тексты мы просто переписывали и копировали, а не забирали, и великое счастье, что мы успели это сделать, поскольку в дальнейшем все это стало по большей части недоступно.

С журналами в то время дело обстояло плохо, печатали в основном только переводы. Кроме того, в те годы специалисты в области истории литературы говорить о Пастернаке не рисковали. Мне же – как сыну – это было можно, и я широко этим пользовался. Напечатать что-либо было сложно, но все чаще и чаще мне представлялась возможность выступать с рассказами о Пастернаке. Правда, не всегда удавалось избежать скандала, как это случилось после моего выступления в Центральном Доме литераторов в 1967 году.
Это был вечер, приуроченный к празднованию 50-летия октябрьской революции, под названием «Золотые страницы советской поэзии». Пострадал от скандала не я (никто бы не решился упрекать сына, к тому же преподавателя МЭИ, за речь об отце), но Зиновий Паперный, который меня пригласил, и директор ЦДЛ, Филиппов, которому пришлось многое претерпеть со стороны советских функционеров.
Мы дружили с семьей Солженицына, и когда его выслали из страны, то мы помогали родным Александра Исаевича собираться к отъезду и провожали их на аэродром. Об этом стало известно руководству МЭИ, и меня заставили уйти из института. Надо сказать, что это воспринималось как освобождение и счастье, поскольку к тому времени работы над папочкиными текстами было уже очень много. Мы начали разбирать письма, уже удалось подготовить его переписку с Ольгой Фрейденберг. Книга была напечатана за границей под чужой фамилией – составителем значился некто профессор Моссман.
Через год после ухода из МЭИ, имея степень кандидата наук (доцента), мне удалось устроиться младшим научным сотрудником в Институт Мировой литературы. И с тех пор я служу в архивном отделе ИМЛИ. Это дало мне свободу и возможность целиком посвятить себя основному занятию – работе над публикациями произведений Бориса Пастернака. Уже к тому времени Аленушка, которая занималась еще подготовкой издания «Большой серии» 1965 года, верно определила основные текстологические задачи, да и я полностью погрузился в эту работу, вместе с Е. С. Левитиным и М. К. Поливановым, занимаясь комментариями (составителем издания был Л. А. Озеров, а знаменитое предисловие написал А. Д. Синявский).
В 1982 году, почти случайно, мне удалось издать книжку прозы под названием «Воздушные пути». В ходе этой работы постепенно накопился материал для «Биографии». Поэтому через много лет, когда рухнули препоны и появилась, наконец, возможность беспрепятственно печатать Пастернака, то многие его произведения уже были готовы к публикации, и мы могли предоставить в редакцию вычитанные и откорректированные тексты. Так, удалось с помощью В. М. Борисова впервые издать выверенный новомирский текст романа. А с 1985 года мы начали писать книгу, которую, по примеру Анненкова, назвали «Борис Пастернак. Материалы для биографии».
До этого много времени отдавали переделкинскому дому Пастернака, в сторожке которого мы тогда жили и, бывало, проводили по десять экскурсий в день. Но в 1981 году началась безобразная и скандальная история ликвидации семейного музея, повлекшая за собой долгие судебные разбирательства с Литфондом и закончившаяся нашим насильственным выселением из Переделкина. Эта печальная перемена жизни освободила время для целенаправленной работы над биографией, которая выросла в книгу объемом в 50 авторских листов.
Когда появилась возможность выезжать за границу, мы в течение шести лет занимались в Оксфорде недоступным до этого времени семейным архивом, где, кроме всего прочего, узнали много нового из заграничной истории публикации «Доктора Живаго». Это помогло нам заполнить те пробелы, которые образовались в результате недоступности этих материалов, в том числе – обширнейшей переписки Пастернака последних лет его жизни.
Кроме того, еще в 1980-е годы у нас возникла идея: мы решили, что в виду совершенно особых качеств пастернаковских писем следует публиковать его переписку не в форме научного издания документов с комментариями под строкой, а делать книжки для чтения – с обобщенными живыми примечаниями в тексте. Так родились книги, в которые вошла переписка с Ольгой Фрейденберг, с М. Цветаевой и Р. М. Рильке (все были сразу переведены на многие языки), переписка с моей мамой – Евгенией Пастернак («Существованья ткань сквозная»), а потом – и с его родителями и сестрами. Именно в такой форме можно было сохранить живое дыхание писем, которое могло бы потеряться в сухом и наукообразном издании, услышать голоса и диалог обоих корреспондентов, не выкидывая из писем ни слова и не внося никакой правки в авторские тексты, но обрамляя их подробными объяснениями, чтобы повествование получилось ярким и полным.
Помимо этого, нас начали приглашать на всевозможные симпозиумы, коллоквиумы, конгрессы и конференции, которые мы стали посещать, знакомя их участников с рассказами о жизни и творчестве Пастернака, биографическими свидетельствами и воспоминаниями, а также делая научные доклады аналитического характера.
— Да, это происходило постепенно. Видимо, первое пробуждение глубокой веры было у него в детстве. Такое свидетельство есть и в его письмах с воспоминаниями о детстве, и в тех обобщенных рассуждениях об этом периоде, о его психологии, духовной и душевной жизни, которые мы находим в его произведениях.
Подлинную веру привила ему няня Акулина Гавриловна, которая помогла раскрыть в нем любовь к Христу. Но потом, вероятно, его вера затихла или отошла в глубоко спрятанный внутренний мир; во всяком случае, никаких свидетельств о том, что он в молодости ходил в церковь, нет.

Семья Пастернака по своим внутренним устремлениям была верующая, но далекая от Церкви, хотя некоторые церковные обычаи соблюдались. Например, несколько писем отца Пастернака – Леонида Осиповича – рассказывают о том, как в семье готовились к Пасхе: красили яйца и пекли куличи. Однако это не имело никакого особенного, церковного, смысла, а было таким же праздничным обычаем, как украшение елки на Рождество. Такова была атмосфера их жизни и семейного быта.
Когда в 1893 году мой дедушка, Леонид Осипович (известный и талантливый художник – А.В.), получил предложение стать преподавателем Училища живописи, ваяния и зодчества, то он знал, что дать согласие он может только при условии, что ему пришлось бы официально принять Православие, поскольку Училище находилось в ведении Императорского двора. Ответ на это предложение был адресован попечителю Училища, Великому князю Сергею Александровичу. Дед, признавая себя верующим человеком, ответил отказом, пояснив, что официально не принадлежит ни к какому вероисповеданию: для него было невозможным принять Крещение, лишь отдавая дань формальным соображениям. Другими словами, он не захотел пойти на этот шаг исключительно ради получения льгот и привилегий. Вопреки этому отказу, Великий князь постановил: «Принять!».
– Нет. О крещении папы нам известно из письма 1950-х годов к Жаклин де Пруайар, где он рассказывает о том, что он был крещен своею нянею в раннем детстве. Она же водила его в церковь. Известно также, что в детстве он причащался.
Судя по стихотворению «Рассвет» (оно начинается словами: «Ты значил все в моей судьбе. / Потом пришла война, разруха, / И долго-долго о Тебе / Ни слуху не было, ни духу»), в его жизни был довольно продолжительный период, когда вопросы веры и церкви прямо и открыто им не поднимались. Это объясняется тем, что христианство молодого поэта, в ту пору «левых» направлений, было бы чем-то непонятным и вызывающим в глазах окружающих.
У М. М. Бахтина есть высказывание о том, что лирика требует хорового сопровождения, и поэт не может писать стихи, если не находит общего мотива: в этом случае он похож на сумасшедшего, который вышел на площадь и выкрикивает никому не понятные слова. Вот в этом положении в ту пору папочка быть не хотел, поэтому его христианство было глубоко потаенным. Но разговоры о вере и Православии я помню очень хорошо.
Воспитывавшая меня и дружившая с папой Елизавета Михайловна Лопухина, которая была глубоко верующим человеком, часто с ним беседовала на эти темы, и следы таких разговоров есть в «Охранной грамоте». Например, рассуждения о русском обществе начала XX века вышли именно из контекста этих бесед: они до сих пор живы в моей памяти. Благодаря Елизавете Михайловне я тоже в детстве часто ходил в церковь, хотя не был крещен и, естественно, не причащался. А Евангелие и вообще Библия были книгами, которые в семье постоянно читали, и всякий раз, когда я брал Библию у папочки, по прошествии нескольких дней он непременно требовал ее назад: это была его настольная книга.
Так продолжалось до войны, хотя желание глубже войти в христианскую атмосферу с годами все возрастало. В Переделкине около храма (тогда он был закрыт) жил замечательный священник, которого несколько раз арестовывали, но известно, что папочка к нему часто ходил. Чтобы такое могло случиться, для этого нужно было разувериться во многих вещах. Окончательное осознание того, что советская идеология ошибочна, пришло к Пастернаку в 1930-е годы. Тогда, во время поездок по стране, он имел возможность наблюдать страшную картину жизни русских людей (например, он ужаснулся, когда увидел эшелоны раскулаченных на Урале), а из путешествия с писательской бригадой в Магнитогорск он вернулся в глубокой депрессии.
Сохранилось его письмо оттуда к жене, Зинаиде Николаевне, где он с болью в сердце описывает ту безжизненную атмосферу полной разрухи, с которой он столкнулся там. Лишение человека свободы ради установления власти, следующей мертвой букве закона, уничтожающей все живое вокруг себя, папочку все больше и больше пугало и отталкивало. Постепенно его поведение и образ мыслей становились все более оппозиционными власти. Он позволял себе высказывать такие вещи, которые, казалось бы, должны были вызвать жесткий отпор и даже репрессии, но почему-то этого не происходило…
– Да, это действительно поразительная вещь. Но, надо сказать, что в его оппозиционных высказываниях никогда не было грубых оскорблений. Хотя, естественно, среди литературных чиновников и советских писателей у папочки были недоброжелатели и даже враги. Например, Сурков в письмах к Горькому возмущался тем фактом, что Пастернака провозгласили чуть ли не первым поэтом, и писал о необходимости «выправить положение», причислив его к «полуконтрреволюционным» элементам советской литературы (у Суркова была своя шкала градаций литераторов по признаку их революционности).
Однако все критические высказывания Пастернака каким-то непостижимым образом сходили ему с рук, и наоборот, многие его уважали и любили. Как раз именно за открытость, независимую позицию и вообще, за то, что хоть с кем-то можно было свободно поговорить и вдохнуть глоток свежего воздуха…
В 1936 году развернулась идеологическая кампания, известная как «дискуссия о формализме», на которую Пастернак пошел защищать своих друзей – Иванова, Леонова, Федина. Он до такой степени был возмущен унизительной и жестокой расправой с так называемыми «формалистами», в ряды которых зачислялось все больше и больше художников самых разных направлений, что не выдержал и впервые выступил публично в очень резкой форме, называя вещи своими именами. Тогда прозвучали его известные слова о советской критике: «Если обязательно орать в статьях, то нельзя ли орать на разные голоса? Тогда будет все-таки понятней, потому что, когда орут на один голос, – ничего не понятно. Может быть, можно вообще не орать – это будет совсем замечательно, а может быть, можно пишущим эти статьи даже и думать, тогда мы, может быть, что-нибудь и поймем».
Кроме этого, и без того недопустимо смелого, прямого и жесткого высказывания по поводу редакционных статей в «Правде», Пастернак произнес еще такую фразу: «Возможно, что первоначальная мысль пришла в голову серьезному человеку, но потом она попала в такие руки, которые сделали из нее непонятно что». Речь Пастернака была положена на стол Сталину главным редактором «Правды» с тем, чтобы вызвать у вождя возмущение, – но последняя фраза привлекла повышенное внимание Сталина, и он подчеркнул ее красным жирным карандашом в стенографической записи выступления. Однако произошло очередное чудо: за этим ничего последовало…
Таким образом, в предвоенные годы в папочке все больше и больше нарастало ощущение, что из этой идеологической «проработки» ничего хорошего не выйдет (хотя возникло оно у него очень рано – еще в письмах Дмитрию Петровскому 1919–1920-х годов). На протяжении долгих лет он все еще продолжал надеяться на то, что действия русской революционной интеллигенции все же имеют в себе зерна хоть какого-то смысла, но когда стала обнажаться еще и абсолютная преступность происходящего, то все его сомнения рассеялись окончательно. Стало ясно, что рассчитывать больше не на что, кроме как на Того, на Кого человечество уповало почти два тысячелетия!
По уже цитированному стихотворению «Рассвет» видно, что Пастернак пришел к евангельским истинам как к основе своего поведения, образа жизни и творчества. И именно такое понимание Евангелия как опоры человеческого существования вошло в текст романа, начиная с эпизода о том, как Лара приходит в храм на Божественную Литургию: «Пели псалом: “Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя Имя святое Его”». После этих слов в карандашной рукописи следует русский перевод строк 102-го псалма: «Творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым». Дальше звучат заповеди Блаженств: «Блажени нищие духом… Блажени плачущие… Блажени алчущие и жаждущие правды…». Слов Христа: «Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное», – в тексте романа нет. В конце главы идет развернутое изложение: «Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение». Блаженны те, кого осудили за правду, – эта истина воспринималась Пастернаком особенно остро.
Елена Владимировна бережно раскладывает на столе пожелтевшие от времени листочки, аккуратно исписанные пастернаковским почерком.
Елена Владимировна:
– Это выписки из великопостных и других богослужений. Посмотрите: вот – Великий понедельник, а вот – служба Великой среды. А это – уже Пасха и Светлая седмица. Видите, какие эти странички ветхие на сгибах: Пастернак годами их носил сложенными вчетверо в нагрудном кармане, чтобы следить за ходом служб и участвовать в богослужениях. Этими выписками он пользовался и в работе над романом. Но, несмотря на то, что Борис Леонидович брал с собой в храм такие листочки, церковную службу он знал очень хорошо.
Когда он умирал от инфаркта в Боткинской больнице в 1952 году, то вместе с нянечкой, которая с ним сидела, он повторял на память молитвы богослужений. Крестившая его в детстве няня считала, что это Ангел-хранитель вложил ему в сердце тексты этих служб и молитв, которые он всю жизнь помнил наизусть. А в больнице вдруг обнаружилось, насколько хорошо, полно и точно они сохранились в его памяти. В 1947 году на отпевании мальчика, моего двоюродного брата Котика Поливанова, Пастернак всю службу пел вместе с хором, и это очень удивило Женю, стоявшего рядом с ним …
Евгений Борисович:
– Да, все это было прикровенно… Историю и искусство Борис Пастернак воспринимал исключительно в евангельском контексте – как ростки, появившиеся из проповедей первых христиан. Об этом глубоко духовном отношении к истории и культуре свидетельствуют многие рассуждения на страницах романа «Доктор Живаго». Поразительно то, как много прямых совпадений в мыслях о христианстве у митрополита Антония Сурожского и Пастернака. И, хотя они не были знакомы друг с другом, это был общий ход русской мысли…
– Да, об этом стало известно благодаря Кате Крашенинниковой, которая передала слова исповеди священнику о. Николаю Голубцову. Так делали в лагерях, когда священник был недоступен…
А сами мы крестились в 1976 году и, вставая в полшестого утра, ездили к отцу Дмитрию Дудко в Гребнево, где милиция устраивала настоящие облавы. От милиции страдали особенно наши дети, когда ходили в церковь. Кстати, именно они нас и окрестили, когда сами захотели принять крещение и настояли на том, чтобы крещена была вся семья. Вообще, наше вхождение в Церковь было естественным: помимо христианских взглядов отца, которые окрашивали собой наше с ним общение, этому способствовало и пастернаковское окружение. Катя Крашенинникова, Ирина Софроницкая были близкими друзьями Пастернака и глубоко верующими людьми.
Ирина Софроницкая пострадала за веру, попав в лагеря: ее приговорили к 25 годам за то, что якобы она молилась за освобождение страны от Сталина, что было приравнено к терроризму. Слава Богу, что из-за смерти Сталина она пробыла в лагерях не 25, а 6 лет, что, конечно, тоже немало… Естественно, папочка все это видел, очень остро чувствовал полное несоответствие жизни тому, что лежит в основе многовековой христианской истории. Поэтому Евангелие было для него живым источником, питающим человека в мире советской бессмыслицы и пустоты.
– Как известно, мой дед, Леонид Осипович, автор иллюстраций к роману «Воскресенье», рисовал и самого Льва Толстого. Писатель очень волновался, боясь, что, позируя, не сможет долго оставаться в одном и том же положении, на что дедушка ему ответил: «Не беспокойтесь, Лев Николаевич, главное – это все время о чем-то напряженно думать!» Толстой воскликнул: «Но ведь это я делаю постоянно!». Так вот, папочка мой тоже постоянно о чем-то думал. Это была непрерывная работа мысли, чуткое внимание ко всему, что его окружает. Всегда мы видели перед собой художника, который все замечает, находится в постоянном наблюдении, ведь мир – это материал для его творчества: тут все идет в дело. Такая художественная чуткость и наблюдательность окрашивала собою все его поведение – мысли, беседы, отношения с людьми. Поэтому с ним всегда было очень интересно, и каждый разговор становился необыкновенно живым и насыщенным.
Беседовала Александрина Вигилянская
Православие и мир, 10 февраля 2009 г.
О христианских мотивах в творчестве Б. Л. Пастернака
Корнями Борис Пастернак не был связан с христианством. Путь к нему у поэта был долгим. Родители, отец Леонид Осипович (Ицхок-Лейб) (1862 ?1945) и мать Розалия Исидоровна (Райце Срулевна) (1868 – 1939), не были крещеными. В мае 1894 г. к Л. О. Пастернаку обратился инспектор Училища живописи, ваяния и зодчества князь А. Е. Львов с приглашением занять место преподавателя училища. Л. О. Пастернак, выражая благодарность, указывал на свое еврейское происхождение. Позже он писал: «Я не был связан с традиционной еврейской обрядностью, но глубоко веря в Бога, никогда не позволил бы себе и думать о крещении в корыстных целях» («Записи разных лет»). Сын же его Борис рано прикоснулся к особому миру православной духовности. «То, что он ходит с няней в церковь, тоже было незаконным и уязвимым. Видимо, она по-своему это преодолела. Окропив его во имя Отца и Сына и Святаго Духа, она уверила его, что нет препятствий к его участию в службе. Детская память жадно впитала в себя напевы и слова, безотчетно создавая глубокое чувство причастности. Далее оно развивалось и менялось по внешним – историческим и собственным – душевным причинам. Тщательно таимое, остающееся предметом жажды, источником вдохновения, а не спокойной привычкой, – это чувство никогда его не оставляло» (Е. Б. Пастернак. Борис Пастернак. Биография. Глава I. Детские годы. 1890-1902). Среди неизгладимых впечатлений детских лет, запечатленных позже в стихотворении «Женщины в детстве» присутствует храм:
Тротуар, мостовую, подвалы,
Церковь слева, ее купола
Тень двойных тополей покрывала
От начала стены до угла.
Речь идет о снесенной в 1935 г. церкви святых Флора и Лавра на Мясницкой улице. Она находилась напротив нынешнего здания Почтамта. Это был ближайший храм. Семья жила на Мясницкой при Училище во флигеле. О своем крещении Борис Пастернак писал в письме от 2 мая 1959 г. к Жаклин де Пруаяр: «Я был крещен в младенчестве моей няней, но вследствие направленных против евреев ограничений и притом в семье, которая от них избавлена и пользовалась в силу художественных заслуг отца некоторой известностью, это вызвало некоторые осложнения и факт этот всегда оставался интимной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычки. Но я думаю, что здесь источник моего своеобразия. Я жил больше всего в моей жизни в христианском умонастроении в годы 1910–1912, когда вырабатывались корни, самые основы этого своеобразия, моего видения вещей, мира, жизни…» (Борис Пастернак. Стихи и поэмы 1912– 1959. Анн Арбор: изд. Мичиганского университета. 1961, стр. XI). Было бы наивно полагать, что сама няня совершила крещение. Речь идет о тех случаях, когда тайно от неверующих родителей кто-то из близких (например, бабушка) ведет в храм, чтобы священник совершил это таинство. В 1959 году Борис Пастернак не мог не знать, что крещение совершается священнослужителями.
Понять происшедшую перемену мировоззрения Бориса Пастернака, когда детская веру заслонило и даже вытеснило увлечение творчеством, может помочь роман «Доктор Живаго». Внутренняя жизнь главного героя Юрия Андреевича близка автору романа. «Десять лет тому назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький…Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутреню или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила…
Совсем другое дело было теперь. Все эти двенадцать лет школы, средней и высшей, Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе, как семейною хроникой родного дома, как своею родословною. Сейчас он ничего не боялся, ни жизни ни смерти, все на свете, все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною и совсем по-другому выстаивал панихиды по Анне Ивановне, чем в былое время по своей маме. Тогда он забывался от боли, робел и молился. А теперь он слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба…Юра шел один, быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какою вода, крутя воронки, устремляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает» (Часть третья. Елка у Свентицких. 15-17).
От первых опытов (в альманахе «Лирика»; 1913) до «Гамлета», открывающего цикл стихотворений на евангельские темы – путь в полжизни. Поэт прошел увлечение символизмом, умеренным футуризмом (группа «Центрифуга»), временно сблизился с объединением ЛЕФ. Но личность поэта никогда не была до конца в плену у этих идейных программ и ложных концепций. Даже в этот период христианская тема не была ему совершенно чужда. Так, стихотворение «Бальзак» (1927 г.), посвященное изнурительным трудам и тяжким житейским заботам французского писателя, неожиданно заканчивается строфой:
Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Шестой главою от Матфея?
В 6 главе содержится часть Нагорной проповеди. Господь дает совершенный образец молитвы (Отче наш) и указывает путь к спасению: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. (Мф. 6:33).
Даже в поэме на революционную тему поэт находит уместной такую реминисценцию:
О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.
Написано в 1927 году. В Советской России начинался новый период гонений.
Важно даже не это эпизодическое обращение к новозаветной теме, а проникающее все творчество этих десятилетий радостное, порой восторженное, отношение к жизни. Поэтический образ сестра – моя жизнь поставлен в название целого сборника (1923), который Борис Пастернак считал началом своей поэтической жизни. В стихах его нет ни того неутолимого себялюбия, которое можно наблюдать у многих поэтов так называемого «серебряного века». Нет также демонической мрачности и трагической изломанности. Трудно согласится с определением, которое дает мироощущению Б. Л. Пастернака Федор Степун, говоря о его «христианском пантеизме» (Б. Л. Пастернак. – Встречи. М.,1998, с. 227). Эти два понятия совместить невозможно. А. А. Ахматова верно усматривает в его творчестве не убывавшее с годами детское отношение ко всему окружающему и чувство сопричастности во всему, что происходит в жизни:
Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследство,
А он ее со всеми, разделил.
Это не было лишь проявлением его нравственной природы, но составляло важнейшую черту мировоззрения. После просмотра балета С. Прокофьева «Золушка» он писал Галине Улановой 13 декабря 1945 года: «Я особенно рад, что видел Вас в роли, которая наряду со многими другими образами мирового вымысла выражает чудесную и победительную силу детской, покорной обстоятельствам и верной себе чистоты».
Годы жестокого разгрома и террора 30-х годов были для всех людей временем нравственного испытания и выбора. Б. Пастернак обнаружил такое устроение души, которое неизбежно должно было привести его к осознанному принятию христианства.
В 1937 году руководство писательской организации собирало подписи литераторов под петицией с одобрением смертного приговора М. Тухачевскому, И. Якиру и др. военачальникам. Позже Б. Пастернак рассказал Ольге Ивинской: «Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза писателей приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский [занимал в 1936-1941гг. должность генерального секретаря Союза советских писателей] начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой… В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг» (Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. – М.,1992, с. 157). Но 15 июня 1937 года в «Известиях» было обращение писателей «Не дадим житья врагам Советского Союза». Там была подпись Б. Пастернак. 12 марта 1942 года он писал К. Чуковскому: «пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно». Узнав об этом, он сразу же поехал к В. П. Ставскому и требовал опровержения, которого не последовало.
У Б. Пастернака была редкая добродетель – переживать боль других как свою. В дневнике Лидии Чуковской 20 июня 1960 года сделана запись: «Пастернак с годами научился чувствовать чужую боль» (Записки об Анне Ахматовой, СПб. – Харьков, 1996, т.II, с. 308). Когда Б. Пастернак узнал о трагической смерти поэта Паоло Яшвили, обвиненного в желании «обмануть советский народ», он в письме от 28 августа 1937 года написал вдове поэта: «Тамара Георгиевна, милая, бедная, дорогая моя, что же это такое! Около месяца я жил, как ни в чем не бывало, и ничего не знал. Знаю дней десять, и все время пишу Вам, пишу и уничтожаю. Существование мое обесценено, я сам нуждаюсь в успокоении и не знаю, что сказать Вам такого, что не показалось бы Вам идеалистической водой и возвышенным фарисейством. Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил. 17-го в городе мне это подтвердили. Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло, я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему». В конце жизни поэт, пережив много потерь и утрат, написал:
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем!
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
Душа. 1956.
В своих Записках Лидия Чуковская приводит слова А. А. Ахматовой: «Борис Леонидович человек благородный, добрый; помогает многим ссыльным и не ссыльным» (запись 14 мая 1953 года).
Военные годы окончательно определили и сформировали христианское мировоззрение Б. Пастернака. Евангельской мыслью проникнуто стихотворение Смерть сапера. Поэт говорит о бессмертии подвига воина, который жертвует своей жизнью ради других. Это не иллюзорное и риторическое бессмертие, о котором любят говорить атеисты, а реальное бессмертие: исполнивший Божественную заповедь становится наследником вечной жизни:
Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, -
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.
………………………
Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.
В другом стихотворении (Разведчики) говорится о трех бесстрашных воинах, которых хранит молитва:
Их было трое, откровенно
Отчаянных до молодечества,
Избавленных от пуль и плена
Молитвами в глуби отечества.
В стихотворении Ожившая фреска при описании боя смело используются реалии церковной жизни:
Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадильницею дым и щебень
Выбрасывая из побоища.
Воин между боями вспоминает фреску на стенах часовни, куда водила его мать, и в воображении его встает образ святого Георгия, как бы сошедшего с нее и поражающего врага:
О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погонею
Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконьею!
Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.
В стихотворении Неоглядность, в котором поэт пишет о доблестных русских моряках (Нахимов в звездном ореоле И в медальоне – Ушаков), поэт использует церковный язык:
Непобедимым многолетье,
Прославившимся исполать!
Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.
Исполать – сокращение от: Испола эти деспота (греч. eis polla ete despota – на многие годы, владыка).
Роман «Доктор Живаго», начатый в конце 1945 г. и завершенный 10 декабря 1955 года, явился итогом не только долгого творческого пути, но и попыткой в свете нового христианского мировоззрения осмыслить прожитую жизнь. В письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг (13 октября 1946 г.) писал: «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, – эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется „Мальчики и девочки“. Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности. Атмосфера вещи – мое христианство». Еврейство упомянуто не случайно. Для человека, родившегося в традиционной еврейской семье, национальная идея становится своеобразной религией, являясь причиной отвердевшей веками невосприимчивости к новозаветной истине. В романе «Доктор Живаго» принявший Православие Михаил Гордон выражает мысли самого Б. Пастернака: «Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник… этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда…» (Доктор Живаго. Часть четвертая. Назревшие неизбежности). Упомянутое в письме Ольге Фрейденберг антихристианство, составляло основную стихию того общества, в котором последние 40 лет жил писатель. Воинствующий атеизм соеобразно соединялся с неоязычеством (культ партийных вождей и многочисленные памятники-идолы).
Люди, далекие от веры, по вполне понятным причинам пытаются умалить христианское мировоззрение Б. Пастернака, изобразить его мечтательным и неглубоким. Позиция эта предвзятая. Автор хорошо знает православную традицию. Он с любовью и духовной чуткостью обращается к различным сторонам церковной жизни. «В час седьмый по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и поплыла, смешиваясь с темною влагой дождя, волна тихого, темного и сладкого гудения. Она оттолкнулась от колокола, как отрывается от берега и тонет, и растворяется в реке отмытая половодьем земляная глыба. Это была ночь на Великий четверг, день Двенадцати евангелий. В глубине за сетчатою пеленою дождя двинулись и поплыли еле различимые огоньки и озаренные ими лбы, носы, лица. Говеющие прошли к утрене» (Доктор Живаго. Часть десятая. На большой дороге). Сын поэта Евгений Пастернак пишет: «20 октября его увезли в Боткинскую больницу с обширным инфарктом миокарда. Он пробыл там до 6 января 1953 года… В разных письмах и стихах Пастернак старался передать пережитое им в больнице чувство близости смерти. Он подробно записал, как остро ощутил он в эти минуты реальное присутствие Бога, горячее желание славить и благодарить его. Он рассказывал, что больничная няня, сидевшая неподалеку, припоминала вместе с ним слова различных церковных служб, удивляясь тому, как многое он знал. Кроме запомненных с детства молитв, в бумагах Пастернака сохранились стертые на сгибах листки с выписками из служебных текстов, которые он носил с собою в церковь и постепенно учил. Он любил тихонько подпевать вместе с хором». В стихотворении, написанном за четыре года до смерти, поэт созерцает красоту окружающей его природы и вспоминает сладость и счастье пережитой им радости во время церковной молитвы:
B церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.
Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
B слезах от счастья отстою.
Как разгуляется. 1956.
Работу над романом Б. Пастернак воспринимал как свой христианский долг и видел в этом Божественную волю. Во время, когда готовилась над писателем расправа за публикацию романа заграницей, Б. Пастернак написал письмо заведующему Отделом культуры ЦК КПСС Д. А. Поликарпову: «Люди, нравственно разборчивые, никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».
Роман «Доктор Живаго» как по композиции, так и по идейному содержанию, произведение многоплановое. С религиозной точки зрения самая главная тема в книге – тема жизни, смерти и Воскресения. Первое название романа в рукописи 1946 года – Смерти не будет. Писатель взял эти слова из Апокалипсиса св. апостола Иоанна Богослова: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр.21:4). Фамилия главного героя романа – Живаго (церковно-славянская форма родительного падежа слова живой) – также указывает на основную мысль. Роман начинается со смерти (похороны матери Юрия) и кончается смертью главного героя. Однако в самом конце книжного корпуса стоит стихотворение Гефсиманский сад, которое говорит о великой победе над смертью.
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.
Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Иеромонах Иов (Гумеров) — выпускник философского факультета МГУ, насельник Сретенского монастыря, преподаватель Священной истории Ветхого Завета московской Сретенской семинарии, ведущий рубрики «Вопросы священнику» на сайте «Православие.Ru», автор серии книг «Вопросы священнику».
26 / 11 / 2007
Православие.ру
Проблема влияния изобразительного искусства на творчество Б. Л. Пастернака не обойдена исследователями. Этот вопрос неоднократно затрагивается в работах В. С. Баевского (1), тема «Пастернак и живопись» разрабатывается в статьях Вяч. Вс. Иванова (2), Т. Левиной (3), Д. Де Симпличо (4). И. П. Смирнов подробно рассматривает реминисценции «Преображения» Рафаэля в «Докторе Живаго» (5). О зависимости «евангельских» стихов из романа «Доктор Живаго» от мировой живописи говорят В. Н. Альфонсов (6), Вяч. Вс. Иванов (2), Е. Б. Пастернак (7). Живописные источники некоторых стихотворений из тетради Живаго рассматриваются в работе П. А. Бодина (8).
Предпринимая систематическое сопоставление текстов шести стихотворений из романа «Доктор Живаго», имеющих евангельский сюжет («Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», «Магдалина 1», «Магдалина 2», «Гефсиманский сад»), с текстами четырех канонических Евангелий (9), мы пришли к необходимости обращения к интермедиальным связям (10) этих стихотворений с произведениями изобразительного искусства с точки зрения вербализации иконических знаков. Для этого есть следующие основания.
Обращаясь к евангельскому сюжету, поэт дает нам зримую картину событий, максимально приближенную к быту, к восприятию любого человека. Это обытовление происходит за счет обрастания сюжета деталями, реалиями повседневности (поэтому в стихотворениях так много прозаизмов, лексических единиц с нарочито сниженной стилистической окраской). Метод этот, конечно, не случаен. В тексте романа с ним перекликаются слова Николая Николаевича: «До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности» (11). Эти конкретные детали восходят, в основном, к пластическим искусствам, которые давно и всесторонне освоили евангельскую тему, более того, создали мощную традицию, вплоть до определенных стереотипов, подчас весьма далеких от первоисточника. С нашей точки зрения, значение изобразительного искусства для «евангельских» стихов Пастернака сопоставимо со значением самого первоисточника: Евангелие прочитано поэтом сквозь призму европейского искусства, что на языковом уровне проявляется, во-первых, в системе номинаций, во-вторых, в особенностях организации текстов стихотворений. О влиянии той или иной конкретной картины на образы стихотворений можно, конечно, только высказывать предположения, ничего не утверждая, но можно и нужно указать на существование определенной традиции в трактовке того или иного сюжета, на наличие того или иного иконографического типа.
Особо зависимыми от живописных источников нам представляются «Рождественская звезда», «Магдалина 1» и «Магдалина 2». И мотив Поклонения волхвов и пастухов, и образ Магдалины складываются из узнаваемых элементов и оказываются своего рода обобщением всей многовековой живописной традиции освоения этих тем. Живопись упоминается в романе, когда речь идет о замысле «Рождественской звезды»: «…а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев…» (12).
Поклонение волхвов — популярнейший сюжет в западноевропейском искусстве. Формула «русское поклонение волхвов» несет в себе ту информацию, что для русского искусства, берущего свое начало от искусства Византии, этот сюжет в чистом виде не характерен, хотя является необходимой частью композиций Рождества (13).
Неудивительно, что большинство деталей в «Рождественской звезде» вызывает ассоциации с некоторыми произведениями изобразительного искусства. Рассмотрим основные из них.
- Зимний пейзаж «Рождественской звезды» восходит не только к российским реалиям, но и к нидерландской живописи, главным образом к творчеству Брейгелей. Сам принцип помещения действия в пейзаж сходен с «Поклонением волхвов», «Переписью в Вифлееме» и «Избиением младенцев» Питера Брейгеля Старшего: вся площадь картины заполнена зимним пейзажем со снегом и четкими силуэтами голых деревьев, со множеством фигурок суетящихся людей, и только где-то в нижнем левом углу — волхвы, поклоняющиеся Младенцу, или не сразу заметные Мария и Иосиф, прибывшие в Вифлеем. Пейзаж стихотворения напоминает и другие картины Брейгелей, не связанные с евангельской тематикой, но сходные с упомянутыми характером пейзажа. Это «Зимний пейзаж» Питера Брейгеля Младшего, где на переднем плане — четкие силуэты деревьев, сквозь ветви которых («Сквозь … деревьев верхи» (14) ) видны дали, горы, замерзшие водоемы («Часть пруда скрывали верхушки ольхи») и фигурки людей; а также «Охотники на снегу» Питера Брейгеля Старшего, где открывается вид с горы, покрытой снегом, по которому вместе с охотниками бредут собаки, одна из них оглянулась («Собаки брели, озираясь с опаской»). В связи с пейзажем назовем также картину немецкого мастера середины XYI века (т. н. Монограммист АВ) «Бегство в Египет», где Святое Семейство движется по снегу мимо зеленых елей, а на карнизе оставляемого строения видны сосульки. (Картина находится в московском Музее изобразительных искусств).
- Количество волхвов («Три звездочета») восходит как к западноевропейской живописи — сюжет «Поклонение волхвов» (Босх, Брейгель, Рогир ван дер Вейден, Боттичелли, Леонардо, Веласкес, Рембрандт и др.), так и к русской иконописи — сюжет «Рождество Христово».
- Хотя, в отличие от живописцев, у Пастернака волхвы не цари, а звездочеты, у них сохраняется такой атрибут восточных владык, как длинный караван верблюдов («За ними везли на верблюдах дары. И ослики в сбруе, один малорослей Другого, шажками спускались с горы»). Как и в живописной традиции, повествование о волхвах в стихотворении переведено в полностью бытовой, конкретный план. Процессия видна с широкого обзора, но в то же время четко, без воздушной дымки, если видно и сбрую осликов, и их мелкие шажки. Это описание вызывает две основные ассоциации: фреска Беноццо Гоццоли с извивающейся по горам процессией и картина Питера Брейгеля Старшего, где верблюды движутся по заснеженной улице фламандской деревни.
- Пастухи в стихотворении отождествляются с крестьянами-земледельцами, о чем свидетельствует «сельскохозяйственный» характер тропов в описании звезды:
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена…
Такое отождествление согласуется с живописной традицией («Алтарь Портинари» Гуго ван дер Гуса" (15)).
- Строки «Смотрели с утеса Спросонья в полночную даль пастухи» могут ассоциироваться с фреской Джотто «Сон Иоакима», на которой пастухи, окруженные овцами, смотрят с белых скал, или с «Пейзажем с пастухами» круга Йоахима Патинира, где на переднем плане один из пастухов, находящихся на горе, наблюдает движущуюся внизу в глубине картины, процессию волхвов (16).
- Кожухи (дохи) пастухов восходят как к картинам, где пастухи бывают одеты в шкуры, так и к иконам Рождества, на которых старый пастух, подходящий к Иосифу, также одет в шкуру или власяницу.
- У пастухов оказываются собаки, и именно — овчарки (стерегут овец), присоединившиеся к процессии волхвов вместе с пастухами: собаки в процессии волхвов и в сценах поклонени есть у Гоццоли, Каваллини, Фабриано, Катены, Мурильо и др. Образ собак, бредущих по снегу и озирающихся, может восходить к «Охотникам на снегу» Питера Брейгеля Старшего (см. п. 1). («Собаки брели, озираясь с опаской»).
- Совместное поклонение ангелов и людей («Мы племя пастушье и неба послы, Пришли принести вам обоим хвалы») встречается как на иконах — в соответствии с текстом рождественского кондака,- так и на картинах (Конрад фон Сест, Стефан Лохнер, Калькар, Эль Греко, Боттичелли, Гуго ван дер Гус, Луи Ленен и др.).
- «У камня толпилась орава народу», «из несметного сброда» — скопление большого количества людей при поклонении волхвов имеется на картинах Фра Анджелико, Джентиле да Фабриано, Боттичелли, Леонардо и др.
- «И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария…»
В «Поклонении волхвов Рогира ван дер Вейдена (Мюнхен, старая Пинакотека), действие происходит, по европейской традиции, не в пещере, а в развалинах здания. В арке на заднем плане стоят тесно столпившиеся люди, один заглядывает через головы стоящих впереди, таким образом создается впечатление, что снаружи большая толпа ждет своей очереди, пока поклоняются три волхва.
- »Отверстье скалы" восходит к византийской и русской иконе.
- «Он спал, весь сияющий…» — Младенец испускает свет в «Поклонении пастухов» Эль Греко, на гравюрах Г. Доре, на картинах В. П. Верещагина и М. В. Нестерова.
- «Домашние звери Стояли в пещере» — вол и осел изображены как на великом множестве западноевропейских картин, так и на рождественских иконах.
Практически все ключевые детали образа Магдалины в двух одноименных стихотворениях Б. Л. Пастернака связаны с изобразительным искусством и вызывают цепь ассоциаций с традиционными живописными «сигналами» этого образа. В западноевропейском искусстве, опирающемся на традиционное отождествление Марии Магдалины с раскаявшейся грешницей (17), широко распространен сюжет «Кающаяся Магдалина» (Тициан, Караваджо, Пьеро ди Козимо, Эль Греко, Мурильо, Латур и др.). Евангельский текст для такого отождествления оснований не дает.
«Магдалина 1», пронизанная атмосферой ночного философствования наедине с собой («Когда ночами у стола…») очень близка к «Магдалине со светильником» Жоржа де Латура. Магдалина изображена на ней сидящей у стола (а не на земле в пустыне, как в большинстве других картин), подперев щеку левой рукой, а правой придерживая на коленях череп — атрибут многих «Кающихся Магдалин», другой атрибут — книги, они лежат на столе, здесь же плетка для самобичевания и светильник типа плошки, высокое острое пламя которого является источником освещения в картине. (Заметим, что светильник или горящая свеча — лейтмотив всего творчества Латура, подобно свече у Пастернака).
Строки «…обнимать учусь Креста четырехгранный брус…» могут ассоциироваться с картиной Веронезе «Распятие», на которой Магдалина обнимает четырехгранное основание креста; квадратный в сечении крест изображен и в «Распятии» Лукаса Канаха Старшего, а также на гравюрах Г. Доре.
«И чувств лишаясь, к телу рвусь» — в сценах Оплакивания и Положения во гроб Магдалины, как правило, выражает отчаяние более бурно, чем другие персонажи (Боттичелли, Рафаэль, Джотто, Дюрер, Рогир ван дер Вейден, Пуссен, Лоренцетти и др.). Встречается изображение Магдалины и на русских иконах аналогичного сюжета, например на иконе северных писем «Положение во гроб» (посл. Четв.XV в., ГТГ).
Необходимый атрибут Магдалины в западноевропейской живописи — сосуд самой разнообразной формы, могущий напоминать вазу, графин, стакан и т. д. (Тициан, Караваджо, Пьеро ди Козимо, Мурильо, Кано, Шонгауэр, Доменикино, Мемми, Виварини, Кривелли, Скорель, Граначчи, Пальма Веккио, Рафаэль). Таким образом, превращение евангельского алавастрового сосуда («Магдалина 1») в ведерко («Магдалина 2»: «Обмываю миром из ведерка…») вполне оправдано живописной традицией.
«Пряди распустившихся волос», «В волосы зарыла, как в бурнус» («Магдалина 2») — как правило, Магдалина изображается с роскошными волосами, часто распущенными (фреска Джотто, скульптура Педро ди Мены, картины Тициана, Пьеро ди Козимо, Кривелли, Шонгауэра и др.), причем в ряде картин (Джотто, Тициан, Пьеро ди Козимо и др.) волосы Магдалины имеют вид именно распущенных или распустившихся в данный момент — характерная волнистость говорит о том, что они обычно бывают заплетены в косы.
В живописи обнаруживается и такая деталь, как нитка бус в «Магдалине 2»: брошенные на пол порванные бусы есть на картине Караваджо «Магдалина».
К живописи восходит и поза Магдалины: «Ноги я твои в подол уперла» («Магдалина 2»), «Когда твои стопы, Исус, Оперши о свои колени» («Магдалина 1») — в «Оплакивании» Джотто сидящая Магдалина держит ноги Иисуса на своих коленях.
Строки «Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста»
создают зрительный образ, напоминающий множество произведений искусства разных времен и народов — от иконы Дионисия (ее содержание, по мнению И. К. Языковой, «свет, который приходит в мир, и любовь — Сам Господь, который с креста обнимает человечество» (18)) — до колоссальной скульптуры Христа в Рио-де-Жанейро (1931 г., скульптор П. Ландовски): фигура с раскинутыми руками сама образует крест.
До сих пор речь шла о номинации отдельных деталей. Если же мы обратимся к принципам построения текстов «евангельских» стихотворений Б. Пастернака, то здесь обнаружим общие черты в основном с иконописью. Во-первых, это соединение различных источников, особенно явное в «Рождественской звезде». Пастернак объединяет в стихотворении два повествования евангелистов и апокриф подобно тому, как это делалось на иконах (19), где присутствуют одновременно и звезда, и волхвы, и пастухи — например, на иконе Андрея Рублева в Благовещенском соборе Московского Кремля, иконе школы Андрея Рублева в ГТГ или на иконах Ярославской школы в музеях Ярославля. Традиционные «иконные» источники (Евангелия и апокриф) дополняются элементами западноевропейской живописной традиции.
Второй принцип, сходный с принципом построения иконы,— это взгляд на событие «с точки зрения вечности» (20), чему способствуют и узнаваемость знаков, блоков, из которых складываются евангельские образы Пастернака, и особая временная организация текстов. Принцип использования готовых блоков в самом чистом виде применяется в двух «Магдалинах», где происходит контаминация живописно-апокрифического образа покаяния Магдалины с собственно евангельским эпизодом Вифанского помазания (Мф 26:6–13; Мк 14:3–9; Лк 7:36–48; Ин 12:2-7) и в один ряд выстраиваются восходящие к разным источникам символы раскаяния, полного отказа от суетного прошлого и одновременно символы преданности и оплакивания: и разбитый сосуд, и миро, и слезы, пролитые на ноги Иисуса, вытирание их «волосами головы своей» (Лк 7:38, 44), и сброшенные с шеи («с горла») бусы -
|
Я жизнь свою, дойдя до края, Как алавастровый сосуд Перед тобою разбиваю. («Магдалина 1») |
Особенности пространственно-временной организации стихов также отсылают к иконописи. Так, в древнерусской иконе «…суть Распятия раскрывается лишь в совокупности событий, ему предшествующих и идущих вслед за ним» (21). Обратимся к изображению Распятия во второй «Магдалине». В стихотворении глаголы-сказуемые, стоящие в форме будущего времени («Завтра упадет завеса в храме, Мы в кружок собъемся в стороне, И земля качнется под ногами…» и далее) в контексте приобретают значение действия или уже совершившегося, или повторяющегося неоднократно, происходящего всегда. В первой «Магдалине» форма настоящего времени («к телу рвусь») выражает значение будущего, а такая конкретная деталь в контексте, как «креста четырехгранный брус», создает эффект уже виденного.
В заключение скажем несколько слов о том, что дает учет интермедиальных связей рассматриваемых стихотворений для понимания образной структуры всего романа «Доктор Живаго». Коснемся следующего аспекта. Общепринятым является представление о параллельности образов прозаических глав романа образам стихотворной главы, а следовательно, и образам Евангелия (22). Так, общепризнана христоподобность Юрия Живаго, проводятся и другие параллели. С нашей точки зрения, параллели эти действительно существуют, но они не однозначны: разные персонажи могут восходить к одному и тому же архетипу в том или ином проявлении, черте характера, даже в определенной ситуации (23).
Безусловно, параллелью Магдалине является Лара, но не только она. Достаточно обратиться к описанию отчаяния Марины после смерти Юрия Андреевича: "Марина уцепилась за тело и ее нельзя было оторвать от него, чтобы перенести покойника в комнату, прибранную и освобожденную от лишней мебели, и положить в доставленный гроб « (24) То есть перед нами ситуация Положения во гроб, и Марина ведет себя в ней так же, как Магдалина в соответствующих живописных сюжетах. („И чувств лишаясь, к телу рвусь, Тебя готовя к погребенью“ — „Магдалина 1“). Заметим также, что поведение Марины в указанном эпизоде напоминает реакцию Тони на смерть Анны Ивановны. Вспомним преданность Тони и Марины Юрию Андреевичу (особенно чисто интуитивную преданность Марины), чтобы убедиться в правомерности и таких параллелей.
Приведем еще пример. Такая деталь, как доха — этим словом названа в „Рождественской звезде“ одежда пастухов — помогает прояснить символическую роль такого таинственного персонажа прозаической части, как Евграф Живаго: „Перед ним стоял подросток лет восемнадцати в негнущейся оленьей дохе, мехом наружу, как носят в Сибири…“ (25). Вспомним, что Евграф преклоняется перед братом. В символическом смысле его можно уподобить пастухам, но не только:он пришел с Востока (из Сибири), в его внешности настойчиво подчеркиваются азиатские черты, он постоянно приносит дары — как волхвы, но не „золото, ладан и смирну“ (Мф 2:11), а продукты питания, чем больше напоминает пастухов, но не евангельских, а с западноевропейских картин, особенно испанской школы (Эль Греко, Майно и др.). Таким образом, этот персонаж одновременно уподоблен пастухам и волхвам.
Образы прозаической части романа варьируются, обнаруживая неожиданное сходство с формулой-архетипом, которая дана в „евангельских“ стихах, включенных в контекст мирового изобразительного искусства.
______________
Примечания
- Баевский В. С. Темы и вариации об историко-культурном контексте поэзии Б. Л. Пастернака //Вопросы литературы.- 1987.-№ 10.- С.30–59; Баевский В. С. Лирика Пастернака в историко-культурном контексте //Изв. АН СССР Сер.литер. и яз.- 1988.- С.130–141; Баевский В. С. Пушкин и Пастернак (К постановке проблемы) //Изв. АН СССР Сер.литер. и яз.- 1988.- С.»№!-";№.
- Иванов Вяч.Вс. Колыхающийся занавес. Из заметок о Пастернаке и изобразительном искусстве //Мир Пастернака.- М., 1989.- С.55–59.
- Левина Т. «Страдательное богатство». Пастернак и русская живопись 1910-х — начала 1940-х гг. //Литературное обозрение.- 1990.- № 2.-С.84–89.
- де Симпличо Д. Б. Пастернак и живопись //Мир Пастернака.- М., 1989.- С.46–54.
- Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго».- М.: Новое литературное обозрение, 1996.
- Альфонсов В. Н. Поэзия Бориса Пастернака.- Л.:Сов.писатель, 1990.
- Пастернак Е. Б. Борис Пастернак //Мир Пастернака.- М., 1989.- С.5–12.
- Bodin P/A/ Nine Poems from Doktor Zivago. A study of Christian Motifs in Boris Pasternak s Poetry.- Stockholm, 1976.
- Суханова И. А. Интертекстуальные связи в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Автореф. Дисс. …канд.филол.наук.- Ярославль, 1998.
- Под интермедиальной связью понимается связь поэтического или прозаического текста с произведениями смежного искусства, например, изобразительного искусства или музыки. Такие связи, как правило, выявляются с помощью литературоведческого или в широком смысле искусствоведческого анализа, тем не менее, на наш взгляд, отдельные интермедиальные связи значимы и для собственно языкового уровня текста, прежде всего, для системы его номинаций, и, таким образом, могут учитываться в процессе лингвистического анализа.
- Пастернак Б. Л. Доктор Живаго.- М.:Сов.писатель, 1989.- С.55.
- Доктор Живаго, указ. Изд., с. 91.
- См. Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи.- М.:П, 1993.- С.63–69; Косцова А. С. Сюжеты древнерусских икон.- СПб., 1992.- С.152–153; Языкова И. К. Богословие иконы.- М., 1995.- С.31, 95.
- Стихотворения цитируются по изданию, указанному в примеч. 10.
- Искусствовед М. Н. Соколов в книге «Бытовые образы в западноевропейской живописи XY-XVII веков. Реальность и символика» /М.:Изобр.искусство, 1994/ говорит о популярности сюжета «Поклонение пастырей», в котором поселяне становятся «полноправными членами центрального религиозного события»: «В знаменитом атларе Портинари Гуго ван дер Гуса /1471–1475, Флоренция, галерея Уффици/ охваченные страстным, с трогательной наивностью выражающимся духовным порывом, поселяне демонстративно представлены первыми, самыми искренними и верными свидетелями чуда…» /С.192/.
- «Наконец, в одной из композиций круга Йоахима Патинира / „Пейзаж с пастухами“, 1520-е, Антверпен, собрание де Розе/ поселяне фигурируют уже в качестве главных персонажей религиозной сцены. Они молятся придорожной иконе <…> приглядевшись к конной процессии на заднем плане справа, мы с удивлением угадываем в ней шествие волхвов со свитой…» Там же, с. 194. Репродукция помещена на той же странице.
- См. Аверинцев С. С. Мария Магдалина //Мифы народов мира, т.".-М., 1988.-С.117–118.
- Языкова И. К. Богословие иконы.- М., 1995.- С.30.
- Там же, с. 31, 195.
- Там же, с. 31.
- Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи.- М., 1993.-С.99.
- Кондаков И. В. Роман «Доктор Живаго» в свете традиций русской культуры //Изв. АН СССР Сер.литер. и яз.- 1990.-№ 6.-С.527–540; Смирнов И. П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака.- СПб, 1995; Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго».- М., 1996; Фатеева Н. А. Семантические преобразования в поэзии и прозе одного автора и в системе поэтического языка //Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства поэтического языка и их трансформация.- М.:Наука, 1995.- С.178–259.
- На наш взгляд, вывод И. П. Смирнова о дробном характере аллюзии в «Докторе Живаго» /Роман тайн «Доктор Живаго».- М., 1996/, следует распространить и на параллелизм образов романа.
- Доктор Живаго, указ.изд., с. 477.
- Там же, с. 194.
Публ. Ярославский педагогический вестник. Научный журнал. № 2, 2000
Настоящая работа является продолжением статьи “Интермедиальные связи стихотворений Б. Л. Пастернака “Рождественская звезда” и “Магдалина” с произведениями изобразительного искусства”.
Предпринимая систематическое сопоставление текстов шести “евангельских” стихотворений Б. Л. Пастернака из романа “Доктор Живаго” (“Рождественская звезда”, “Чудо”, “Дурные дни”, “Магдалина 1”, “Магдалина 2”, “Гефсиманский сад”) с текстами четырех канонических Евангелий, мы пришли к необходимости рассмотрения зависимости указанных стихотворных текстов также от произведений мирового изобразительного искусства на евангельские темы. Евангелие прочитано поэтом “сквозь призму” мировой художественной традиции, которая, на наш взгляд, может считаться вторым по значению источником “евангельских” стихов Пастернака после самих Евангелий.
Огромное количество перекличек с произведениями изобразительного искусства говорит о том, что поэтом учтен и переработан весь опыт русской и мировой художественной культуры в освоении евангельской темы, при этом не наблюдается никакого противоречия между европейской и русской традициями, достижения которых органически сочетаются. С. С. Аверинцев, говоря об образе Христа в мировой культуре, замечает, что образ Иешуа в “Мастере и Маргарите” М. А. Булгакова “подводит итоги всей “ренановской” эпохи и выдает родство с длинным рядом воплощений образа в искусстве и литературе 19 в.” /1/. Рассмотрев с точки зрения живописных реминисценций “евангельские” стихи Б. Л. Пастернака, можно добавить, что эти стихи подводят итог всей многовековой традиции воплощения образа Христа во всем мировом искусстве.
По характеру связей с изобразительным искусством шесть стихотворений Пастернака можно разделить на две группы. Наиболее очевидными и поддающимися анализу представляются связи “Рождественской звезды” и двух “Магдалин” с картинами старых европейских мастеров и древнерусской иконописью, с точки зрения как номинации деталей, так и принципов построения текстов. Однако и три других стихотворения (“Чудо”, “Дурные дни” и “Гефсиманский сад”) представляют в этом отношении не меньший интерес, хотя характер их связей с изобразительным искусством оказывается несколько иным.
С точки зрения отражения в тексте отдельных деталей можно, на наш взгляд, выделить только строку “И спуск со свечою в подвал” (“Дурные дни”). П. А. Бодин /2/ считает источником такой детали, как свеча, картину Рембрандта “Воскрешение Лазаря”. Укажем еще два возможных источника. Гравюра Г. Доре и сходная с ней картина А. Сведомского /3/ изображают гробницу Лазаря как пещеру со ступенями. (Следовательно, возможен спуск). У Доре источником света является светильник в руке одного из сопровождающих Христа при спуске в гробницу.
“Чудо”, “Дурные дни” и “Гефсиманский сад”, с нашей точки зрения, имеют переклички не столько с западноевропейской, сколько с русской живописью Х1Х — начала ХХ века с ее вниманием к историческим и географическим реалиям в изображении евангельских сюжетов. Старым европейским мастерам не свойственно подчеркивание местного колорита, как это имеет место в названных стихотворениях (“Припомнился скат величавый В пустыне…” — “Дурные дни”; “Колючий кустарник на круче был выжжен” — “Чудо”; “Седые серебристые маслины” — “Гефсиманский сад”). В гефсиманских сюжетах старых мастеров, как правило, нет сада, Елеонская гора изображается в виде совершенно голого пригорка (Джованни Беллини, Микеланджело, Босх), зато встречаются такие детали, чуждые стилистике рассматриваемых стихотворений, как ангел (Эль Греко, Сурбаран, Бассано) и символическая чаша (Босх), чашу иногда держит в руке ангел (Эль Греко, Бассано, Беллини). Напротив, в картинах на евангельские сюжеты А. А. Иванова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Д. Поленова, Г. И. Семирадского, В. А. Котарбинского, А. Сведомского и др. присутствуют исторические реалии и колорит жаркой страны. По словам С. С. Аверинцева, “…историзм 19 века позволяет впервые увидеть евангельские события не в мистической перспективе вечной “современности” их каждому поколению верующих, но в перспективе историко-культурного процесса, как один из ее моментов, лишенный абсолютности, но взамен наделенный колоритностью времени и места…” /1/.
Пейзаж в рассматриваемых трех стихотворениях историчен, и это роднит их с историческим направлением в русской живописи Х1Х века /4/. Но этого нельзя сказать о центральном образе. “Он” действует и говорит, но не имеет лица, “он” даже назван не иначе, как личным местоимением. Это “неназывание по имени” и буквальное соответствие “его” действий и речей первоисточнику создает каноничность образа. Сошлемся на мнение И. Кирилловой /5/, отметившей, что натуралистическое описание образу Христа противопоказано, поэтому именно поэзия, а не проза имеет преимущество в его воплощении, так как поэзия может посредством немногих описательных приемов “вызывать” или “намечать” образ. В этом отношении, считает И. Кириллова, поэзия близка иконописи, которая дает не портрет, а “необходимое очертание”, дающее возможность узнавания образа. Характерно, что исследователь не включает “евангельские” стихи Пастернака в свою классификацию очеловеченных, “христоподобных” образов, очевидно, потому, что не относит их к попыткам создать полностью очеловеченный образ. На наш взгляд, это вполне справедливо и Христос стихов Пастернака не родствен Христу исторической живописи, “который вполне перестал быть богом, но остро воспринимается в своей страдающей человечности…” /1/.
Рассматриваемые стихотворения ближе всего к творчеству А. А. Иванова и И. Н. Крамского, в произведениях которых в историческом, реалистическом пейзаже действует канонический, мгновенно узнаваемый Христос (а не этнографический, как, например, у В. Д. Поленова) /6/.
И. П. Смирнов цитирует работу немецкого автора, высказавшего предположение, что стихотворение Р. М. Рильке, которое И. П. Смирнов считает одним из источников “Гефсиманского сада”, было “репликой Рильке на картину Крамского “Христос в пустыне” и что Пастернак заметил эту интермедиальную связь, однако для такого рода предположений нет никаких текстовых аргументов” /7/.
С нашей точки зрения, некоторые аргументы для доказательства связи стихов Пастернака с произведением Крамского все-таки можно найти, причем не только в связи с “Гефсиманским садом”. Заметим сразу: поскольку речь в данном случае идет не о конкретной детали, изображенной на картине, а о концепции живописного произведения, сравнение картины и стихотворения неизбежно окажется субъективным. Поэтому воспользуемся “вербализацией” “Христа в пустыне”, сделанной самим И. Н. Крамским, много и подробно высказывавшимся о содержании своего произведения. (Были ли эти тексты знакомы Б. Л. Пастернаку, существенного значения, на наш взгляд, не имеет).
Во-первых, отметим такой немаловажный факт, как контаминация образов Христа и Гамлета, лежащая в основе стихотворения, открывающего Тетрадь Живаго и — через первоисточник — имеющего текстовую перекличку с заключительным стихотворением цикла (“Если только можно, Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси” — “Гамлет”; “Чтоб эта чаша смерти миновала, В поту кровавом он молил отца” — “Гефсиманский сад”). Между тем, контаминация двух образов присутствует в определении содержания картины “Христос в пустыне”, данном в одном из писем И. Н. Крамского: “…теперь я написал “Быть или не быть” или около этого” /8/. Что означает “быть или не быть” в отношении образа, созданного Крамским, раскрывается в другом письме художника: “…есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию божию, когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево <…> это — такого рода характер, который, имея силу все сокрушить, одаренный талантами покорить себе весь мир, решается не сделать того, куда влекут его животные наклонности” /9/. Нельзя не усмотреть здесь перекличку с “Гефсиманским садом”:
Он отказался без противоборства.
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства.
И был теперь, как смертные, как мы.
Вспомним здесь также и мотив отказа от всемирной державы (происходящего в пустыне) в стихотворении “Дурные дни”.
Мотив выбора наедине с собой, углубленности в себя близок стихотворению “Чудо” (“И так углубился он в мысли свои”). Приведем еще выдержку из переписки Крамского: “Крепко задумался, давно молчит, так давно, что губы будто запеклись, глаза не замечают предметов, и только время от времени брови шевелятся, повинуясь законам мускульного движения. Ничего он не чувствует, что холодно немножко, не чувствует, что у него все члены уже как будто окоченели от продолжительного и неподвижного сиденья. Нигде и ничего не шевелится, только у горизонта черные облака плывут от востока, да несколько волосков по воздуху стоят горизонтально от ветерка. И он все думает, все думает” /10/. Сравним:
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.
………………………………………………..
Он шел с небольшою толпой облаков
…………………………………………………
И так углубился он в мысли свои (“Чудо”)
Формально в стихотворении отражен другой момент, но, на наш взгляд, в нем содержатся отсылки не только к эпизоду Проклятия смоковницы (т. е. к Мф 21:18–22; Мк 11:12–14, 20-24). Так, строчка “Я жажду и алчу, а ты пустоцвет” может ассоциироваться не только со стихами “Поутру же, возвращаясь в город, взалкал” (Мф 21:18) и “Он взалкал” (Мк 11:12). Более значимыми представляются другие ассоциации: “Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся” (Мф 5:6) — слова из Нагорной проповеди, которые в тексте романа слышит Лара в церкви; и особенно: “ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня” (Мф 25:42). Можно увидеть здесь и перекличку с эпизодом Искушения от диавола в пустыне: “и постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал” (Мф 4:2); “Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни; а по прошествии их, напоследок взалкал” (Лк 4:2). К этому же эпизоду отсылает и употребленное в стихотворении (метафорически) слово пустыня (“Все перемешалось — теплынь и пустыня…”): “Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от диавола…” (Мф 4:1); “…и поведен был Духом в пустыню” (Лк 4:1). Таким образом, в стихотворении “Чудо” два слова — алчу и пустыня — превращают эпизод со смоковницей в своего рода “модель” сорокадневного поста в пустыне. Проклятие смоковницы евангелисты помещают сразу после Входа в Иерусалим, т. е. относят его к понедельнику Страстной недели. Следовательно, в стихотворении сближены пост в пустыне и Страстная неделя, а между тем, воспоминание об этих событиях сближено в календаре: Великий Пост “по примеру самого Господа Иисуса Христа, который постился 40 дней, продолжается также означенное время, кроме недели страданий Христовых” /11/ (т. е. сорок дней плюс Страстная неделя). Таким образом, и с этой точки зрения ассоциации с картиной Крамского представляются вполне уместными /12/.
Назовем несколько других произведений изобразительного искусства, возможные связи с которыми хотя и не так определенны, тем не менее, могут заслуживать внимание.
В связи со стихотворением “Чудо” (“Все стихло. Один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытьи”) можно указать рисунок Н. Н. Ге, изображающий одиноко стоящую фигуру Христа среди пустынной, каменистой местности. Стихотворение “Дурные дни” может ассоциироваться со скульптурой М. М. Антокольского “Христос перед судом народа”, а также с незаконченной картиной И. Н. Крамского “Хохот”, близкой к скульптуре Антокольского, хотя момент в ней запечатлен несколько иной. У Антокольского момент совпадает с изображенным в “Дурных днях”, но в картине Крамского ближе к стихотворению выраженная в фигуре Христа отстраненность от происходящих в данный момент событий, центром которых является Он Сам. Стихотворение “Гефсиманский сад” эмоционально перекликается с несколькими произведениями, в которых подчеркнута отделенность Христа от всего окружающего, например с картиной Н. Н. Ге “Христос в Гефсиманском саду”. Настроение стихотворения особенно сходно с настроением картины В. Г. Перова на тот же сюжет (речь именно о настроении: в ней Христос не глядит “в черные провалы”, а пал на лице Свое” — Мф 26:39). Но более всего ассоциаций возникает с эскизом Н. Н. Ге “Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад после Тайной Вечери”: на нем Христос изображен еще среди учеников, но уже не вместе с ними.
Итак, в стихотворениях “Чудо”, “Дурные дни”, “Гефсиманский сад” поэт заимствует из русской живописи Х1Х — нач. ХХ века сам принцип изображения евангельских событий в контексте исторических и географических реалий. Это своего рода знак, отсылающий к традициям “ренановского” искусства. Недосказанность, намеченность центрального образа — тоже знак, указывающий на традиции иконописи. (Сравним: “Ведь лик на мозаике, фреске, иконе — только знак, который указывает на реальность Христа, вечно пребывающего в мире…” /13/).
Таким образом, ориентация на старых мастеров или на живопись реализма оказывается или чисто внешней, или поэт берет из европейской тродиции то, что связывает ее именно с иконой — “перспективу вечной современности”, о которой говорит С. С. Аверинцев. По выражению Е. Б. Пастернака, в евангельских стихах тетради Живаго, “как в картинах старых мастеров, язык повествования близок современному, действие происходит в условиях, без труда ощущаемых читателем” /14/. Сравним: “Пространство и время иконы строятся по своим определенным законам, отличным от законов реалистического искусства и нашего обыденного сознания. Икона открывает нам новое бытие, она пишется с точки зрения вечности, поэтому в ней могут быть совмещены разновременные пласты. Прошлое, настоящее и будущее как бы сконцентрированы и существуют одновременно…” /15/.
С точки зрения временной организации текста представляет интерес использование глаголов несовершенного вида для обозначения единичного и непродолжительного действия в заключительной строфе “Дурных дней”: “Где вдруг она гасла в испуге, Когда воскрешенный вставал …” Создается впечатление, что этот момент воспроизводится или неоднократно повторяется.
Непосредственно выраженное совмещение временных пластов в “Дурных днях”, где через призму основной сцены (суд толпы) ретроспективно вводятся “этапные” (что подчеркнуто парцелляцией) эпизоды Евангелий, вызывает ассоциации с распространенной в иконописи ХУ!! Века (в частности, в ярославской школе) житийной иконой с клеймами — назовем для примера икону “Спас Вседержитель со сценами деяний и страстей” Семена Спиридонова Холмогорца (Русский музей).
Впрочем, можно усмотреть родство “евангельских” стихов Пастернака с другой (принципиально другой, по мнению искусствоведов) живописью, в которой вечность изображенного утверждается другими средствами. С этой точки зрения можно назвать “Желтого Христа” П. Гогена: изображенное на ней можно воспринимать двояко: как самого распятого Христа и как скульптуру в бретонской деревне /16/. Вспомним строчку из второй “Магдалины”: “Брошусь на землю у ног распятья…” и отметим, что распятьем называют изображение распятого Христа, в стихотворении же идет речь о реальном событии. Назовем и другие произведения Гогена: “Великий Будда” в ГМИИ, где события Тайной Вечери разыгрывается за спиной полинезийского идола, или “Видение после проповеди”, где борьба Иакова с ангелом происходит на глазах бретонских крестьянок. Упомянем и картины Мориса Дени. В “Шествии на Голгофу” Христа, несущего крест (и буквально не имеющего лица!) /17/, сопровождают современные монахини; в “Католическом таинстве” священник и мальчики предстоят самой Богоматери, а не ее изображению; в картине “Марта у посудного шкафа, или Святая Марта” образ амбивалентен, как в “Желтом Христе” Гогена: это и портрет жены художника, и образ евангельской Марфы. В этом же ряду можно упомянуть и “Въезд Христа в Брюссель” Джеймса Энсора, и — неожиданно — поиски М. В. Нестерова, особенно его картину “Путники”, где современные художнику крестьяне созерцают Христа, идущего в русском пейзаже.
То есть, как видим, в “евангельских” стихах Пастернака действительно отразилось “все будущее галерей и музеев”, упомянутое в “Рождественской звезде”.
Стилистической особенностью стихов Пастернака, значимой в рассматриваемом аспекте, является минимум оптределений и почти полное отсутствие цветообозначений. Цветовых эпитетов во всех шести стихотворениях семь: в “Рождественской звезде” — цветной (мишуры), золотые (шары), оба случая практически не относятся к нашему предмету, серой (мглы); в “Гефсиманском саде” — седые серебристые (маслины), черные (провалы). С некоторой натяжкой можно отнести сюда свинцовою (тяжестью всею Легли на дворы небеса) из “Дурных дней”. В “Чуде” и двух “Магдалинах” цветообозначений нет вовсе. Таким образом, сравнивать стихи Пастернака с живописью с точки зрения колорита практически нет смысла. Обозначенные в стихах детали принципиально не конкретизируются. Эпитеты и вообще определения, конкретизируя, имеют свойство измельчать, дробить предмет, а поэт стремится к прямо противоположной цели — обобщить предметы, а вместе с ними и сюжет. Отсутствие признаков укрупняет предмет: нет определений — поэтому может быть сосуд вообще, любой, вплоть до ведерка (“Магдалина 2”). Эта стилистическая особенность также согласуется с принципом иконы: стихотворение складывается из ряда знаков, каждый из которых вызывает цепь культурных ассоциаций, сюжет генерализован и существует в вечности, как некий абсолют, формула, архетип (“Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты” — “Гефсиманский сад”).
_____________
Примечания
- Аверинцев С. С. Иисус Христос //Мифы народов мира, т.1.- М., 1987.- С.503.
- Bodin P. A. Nine Poems from Doktor Zivago. A study of Christian Motifs in Boris Pasternak s Poetry.- Stockholm, 1976.
- Картина воспроизведена — весьма несовершенно — в издании: Альбом священных картин. Ветхий и Новый Завет.- Ростов-на-Дону, 1991.- С.145.
- Какие-то моменты связаны не только с русским искусством. На гравюрах Г. Доре есть и сад с маслинами (ангел, впрочем, тоже есть), есть и крутизна (“Дурные дни”), на которой происходит искушение диаволом, есть и люди, бегущие “с ветвями за ним”., как в стихотворении, а не постилающие ветви по дороге, как в Евангелии.
- Кириллова И. Литературное воплощение образа Христа //Вопросы литературы, 1991.- № 8.-С.60–74.
- Христос Иванова и Крамского узнаваем сразу потому, что эти художники, в отличии от Ге и Поленова, ориентируются на общепринятый канон (сравним для примера ивановского Христа с известной новгородской иконой Х11 века “Спас Нерукотворный” в ГТГ), вследствие этого создается не конкретный, а обобщенный, идеализированный образ.
- Смирнов И. П. Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака.- СПб, 1995.-С.169.
- Крамской об искусстве.- М.:Изобраз. Искусство, 1988.-С.161.
- Там же, с. 158–159.
- Цит. По: Даниэль С. М. Библейские сюжеты.- СПб.:Художник России, 1994.-С.32.
- Библейская энциклопедия, т.2.-М.:Центурион, 1991.-С.79.
- К сожалению, в нашей работе “Стихотворение Бориса Пастернака “Чудо” и тексты канонических Евангелий” (Молодые исследователи — школе. Сборник научных трудов.- Ярославль:ЯГПУ, 1997.-С.76-84) эта контаминация эпизодов, как и некоторые другие значимые ассоциации, осталась неучтенной.
- Мень А., прот. Сын Человеческий.- М.:PS, 1991.- С.35.
- Пастернак Е. Б. Борис Пастернак //Мир Пастернака.- М., 1989.-С.10.
- Языкова И. К. Богословие иконы.- М., 1995.- С.31.
- О “Желтом Христе” Гогена см.: Крючкова В. А. Символизм в изобразительном искусстве: Франция и Бельгия, 1870–1900.- 1994.-С.59–60.
- “… в буквальном смысле безлик и несущий крест Иисус” (Там же, с. 174; репродукция на с. 178).
Публ. Ярославский педагогический вестник. Научный журнал. № 3, 2000
Христианские мотивы в «Стихах из романа»
 |
| Борис Пастернак |
И вдруг сейчас, яркой животворящей струей, оно засияло в творении писателя, сорок лет бывшего под гнетом самой безжалостной антихристианской силы, под гнетом сосредоточенно мобилизованных сатанинских сил зла, воплотившихся во власти, полонившей нашу Родину. Для нас самих это не неожиданно: мы всегда знали, что любовь к Христу, преданность Ему с наибольшей силой и полнотой живут в настоящее время именно в глубине нашего народа. Но для внешних это кажется неожиданностью, и они с удивлением пишут: «Как мог такой апостол жизни с глубочайшим чувством ее христианской священности прожить в сокрушающем жизнь и уничтожающем душу кошмаре коммунистической революции и тирании?»
Для нас «Доктор Живаго», творение Бориса Пастернака, драгоценнее всего именно проявлением светлой и глубокой любви к Христу и веры в Него, хотя и не ортодоксальной, но искренней.
Строки из стихотворения «Гефсиманский сад», дерзновенно, но глубоко правдиво, хочется сказать, свято вложенные Пастернаком в уста Христа Спасителя, подобно тому как в уста Господа вкладывались сходные слова древними святыми песнописцами, — эти строки войдут в душу православного человека вместе с лучшими религиозными строками стихов Державина, Пушкина, Лермонтова, А. Толстого, вместе с лучшими христианскими страницами Достоевского.
А так как страницы «Доктора Живаго» написаны не в спокойствии и тихости XIX столетия, а во мраке кровавых антирелигиозных преследований, с исповедническим мужеством, то станут они от того еще более любимыми.
…Спор нельзя решать железом.
Вложи свой меч на место, человек.
Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.
Ты видишь: ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Глубоко войдут в христианскую душу и эти, и многие другие строки из стихов и из текста «Доктора Живаго».
Интересно отметить, по-видимому, совсем бессознательную духовную перекличку через грани веков. Б. Пастернак, вероятно, не читал Иоанна Златоуста. Традиции русской интеллигенции, в которых вырос и которыми пропитался Б. Пастернак, уже давно увели русские мыслящие круги от этого чтения, бывшего некогда любимейшим для наших отдаленных предков.
Но в своем стихотворении «Магдалина» Пастернак повторяет мысль Иоанна Златоуста. Страдания, которые перенесла святая Мария Магдалина, сохранив верность в любви к Господу после Его крестной смерти, так духовно очистили и возвысили ее, что она оказалась способной первой воспринять величайшую истину христианства — весть о воскресении Христа и, став апостолом для апостолов, проповедать и им, и всему миру эту истину. Таковы приблизительно изложенные мысли святителя Иоанна Златоуста.
Это же говорит и Пастернак, влагая в уста Марии Магдалины следующие слова:
…Пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.
Книга Б. Пастернака вызывала признание и преклонение во всем свободном мире. Но она, конечно, не напечатана в Советском Союзе. И тем не менее ошибается американский рецензент, когда говорит, что эта книга, получившая одобрение всего мира, останется неизвестной для русского читателя.
Нет, эта книга уже широко известна и любима в России. Мы слышали, что русские студенты часто знают стихи из нее наизусть, и еще раньше, чем сама книга оказалась за границей, эти стихи уже были переданы русскими людьми оттуда русским эмигрантам здесь. И конечно, эти строки вошли в русскую мысль, в русскую душу прочно — навсегда.
Неудивительно поэтому, что творение Б. Пастернака вызвало такую лютую ненависть со стороны гонителей русской души. Быть может, в этом явлении свидетельство ценности его книги еще лучшее, еще большее, чем награждение ее Нобелевской премией.
Люди могут ошибаться. Но сатана безошибочно узнает всё, ненавистное ему. И когда в пароксизмах злобы его слуги и глашатаи кричат полные ненависти и злости слова относительно новой книги, мы по одному этому уже могли бы догадаться, что тут нечто очень доброе и очень ценное.
Хотя Б. Пастернак находится под ярмом этой сатанинской власти, он, во всеоружии христианского мужества, не боится ее. Он говорит: «Я уже пожилой человек, и самое большее, что может случиться, это смерть. А ее не надо бояться». Потому, что он исповедует:
…Смерть можно побороть
Усильем воскресенья.
Низкий, земной, церковный поклон Борису Пастернаку. И слава ему!Из книги архиепископа Нафанаила (Львова) «Ключ к сокровищнице», изданной в серии «Духовное наследие русского зарубежья», выпущенной Сретенским монастырем в 2006 г.
01.02.2007
Православие.ру
«Рождественская звезда» в первой записи была послана 7 февраля 1947 года поэтессе В. К. Звягинцевой, которая 7 сентября 1946 года присутствовала на чтении первых глав «Доктора Живаго» и в середине января 1947 года уже получила текст стихотворения «Зимняя ночь».
 9–10 февраля 1947 года Пастернак в письме пианистке М. В. Юдиной посылает текст стихотворения и отмечает:
9–10 февраля 1947 года Пастернак в письме пианистке М. В. Юдиной посылает текст стихотворения и отмечает:
«Переписываю и вкладываю „Рождественскую звезду“. Я читал ее потный, хриплым и усталым голосом, это придавало Звезде дополнительный драматизм усталости, без которого она Вам понравится гораздо меньше, Вы увидите».
М. В. Юдина ответила Пастернаку с восторгом:
"О стихах и говорить нельзя… Если бы Вы ничего, кроме Рождества, не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе».
По воспоминаниям Д. Данина, редактор «Литературной Москвы» Э. Казакевич в свое время предложил Пастернаку «…дать стихотворению заглавие… „Старые мастера“. Стихи мгновенно становились проходимыми — без жертв: вся вещь… сразу перемещалась из сферы религиозного сознания в сферу изобразительного искусства! Однако этого-то и не захотел принять Пастернак. „Ему привиделось предательство веры“,— пересказывал Казакевич».
Из приведенных выше свидетельств ясно, что сначала стихотворение называлось просто «Рождество» и что оно было сразу восторженно воспринято поэтом как творческий подвиг и настоящий шедевр.
Анализу «Рождественской звезды» посвящены многие работы. Интерпретация осложняется тем, что это одновременно творение и Пастернака, и его героя Юрия Живаго, и, таким образом, пространственно-временные и философско-идеологические подтексты не поддаются однозначному прочтению. В частности, «Рождественская звезда» оказалась в центре внимания при изучении христианской концепции Пастернака.
На основе утверждения Иосифа Бродского стали изучаться элементы преемственности, соприкосновения и различия между «Рождественской звездой» Пастернака и одноименным стихотворением Бродского 1987 года («В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре»).
Важно отметить, что Пер-Арне Бодин еще в 1976 году указывал на некоторую зависимость иконической структуры пастернаковских стихов от голландской и фламандской живописи в сочетании с чертами восточной иконописи, а Лиллиян Й. Хелле развивает эту концепцию и видит сходство в живописных чертах пастернаковского стихотворения с картиной Питера Брейгеля Старшего «Поклонение волхвов в снегу». Как на веский аргумент в пользу такой интерпретации можно указать на известный отрывок из «Доктора Живаго», когда молодой Юрий на елке у Свентицких «подумал, что просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». Лиллиян Й. Хелле видит в стихотворении Пастернака, как и в картине Брейгеля, секуляризацию сакрального и одновременно сакрализацию секулярного, интериоризацию евангельского повествования. Таким образом, сквозь призму взгляда простых людей описание Рождества принимает явно интимный характер:Доху отряхнув от постельной трухи И зернышек проса, Смотрели с утеса Спросонья в полночную даль пастухи.
 Хелле находит аналогии в описании животных, в распределении главных действующих лиц на картине и во многих других деталях. Главное различие он отмечает в чисто религиозном плане. В то время как западная традиция разделяет поклонение волхвов и поклонение пастухов, восточная традиция сочетает оба события. Последнее прекрасно эксплицирует Пастернак в стихах: «Мы племя пастушье и неба послы,/Пришли вознести вам обоим хвалы».
Хелле находит аналогии в описании животных, в распределении главных действующих лиц на картине и во многих других деталях. Главное различие он отмечает в чисто религиозном плане. В то время как западная традиция разделяет поклонение волхвов и поклонение пастухов, восточная традиция сочетает оба события. Последнее прекрасно эксплицирует Пастернак в стихах: «Мы племя пастушье и неба послы,/Пришли вознести вам обоим хвалы».
Интерпретацию Хелле в целом разделяет и другой шведский пастернаковед Пэр Кристиан Е. Нор-хейм, который в параллельном анализе стихотворений Пастернака и Бродского указывает на то, что «Рождественская звезда» Пастернака ближе к так называемой «повествовательной» иконе и одновременно усвоила некоторые элементы ренессансного подхода к изображению христианских тем, в то время как И. Бродский сосредоточен на теме Рождества Христова и строже соблюдает правила иконописи.
Вместе с этим Пэр Кристиан Е. Норхейм считает, что описания пастернаковской «Рождественской звезды» вдохновлены сочетанием фламандского и русского зимнего пейзажа. Предложенная Норхеймом концепция довольно убедительна, но в ней можно отметить одно не замеченное автором и, следовательно, нерешенное противоречие. Дело в том, что сам шведский исследователь в начале своей статьи приводит очень важное высказывание Бродского о собственных и о пастернаковских рождественских стихах. Поэт в ходе интервью говорит Петру Вайлю:
«Я думаю, что источник этого стихотворения тот же, что и мой, а именно — итальянская живопись (выделено мной.— С. Г.). По своей эстетике стихотворение мне напоминает Мантенью или Беллини, там все время такие круги идут, эллипсоиды, арки: „Ограды, надгробья, оглобля в сугробе/и небо над кладбищем, полное звезд“ — вы слышите их во всех этих „о“, „а“, „об“. Если сопрягать с отечественной эстетикой, то это, конечно, икона. Все время нимбы строятся — расширяющиеся. В рождественском стихотворении у Пастернака вообще много всего — и итальянская живопись, и Брейгель, какие-то собаки бегут и так далее, и так далее. Там уже и замоскворецкий пейзаж. Саврасов проглядывает».
Кроме того, Бродский критикует некоторые элементы в пастернаковской трактовке Рождества:
«В связи с этим — разумеется, бессмысленно вступать в полемику — у меня даже есть некоторые возражения по поводу того, как Пастернак обращался с этим сюжетом, в частности с „Рождественской звездой“. <…> У него там центробежная сила действует. Радиус все время расширяется, от центральной фигуры, от Младенца. В то время как, по существу, все наоборот».
Это и приводит Норхейма к интересному различению между «повествовательным» подходом Пастернака и более ортодоксальным «одномотивным» изображением христианской темы у Бродского.
Валерий Лепахин, глубоко изучивший вопрос о духовной и эстетической роли иконы и иконописи в русской литературе, тщательно анализирует все христианские элементы пастернаковского стихотворения. В частности, в отношении живописных подтекстов он выделяет «взаимосоотнесенность у Пастернака первой и третьей частей стихотворения» с иконным видением времени. Кроме того, он указывает на соотнесенность описаний Пастернака с различными вариантами иконографии Рождества в разных частях стихотворения. То, что интересно здесь подчеркнуть,— это выделение двойного тяготения в лексике поэта то к живописи и живописности — в первой части текста, то к иконе и иконописи — в третьей части. Как пример «картинно-живописного» видения Пастернака Лепахин указывает на стихи:Всем вместе нельзя. Подождите у входа. Средь серой, как пепел, предутренней мглы Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы, У выдолбленной водопойной колоды Ревели верблюды, лягались ослы.
По Лепахину, данное описание напоминает не икону, а нидерландскую живопись XVI–XVII веков в духе Босха, Брейгеля и Рембрандта.
Яков Хелемский четко и ясно проводит очередной анализ пастернаковского стихотворения и старается определить биографические элементы в пастернаковском восприятии живописи о поклонении волхвов. Голландский подтекст «Рождественской звезды» мог, например, восходить к частым посещениям цветаевского музея на Волхонке. Многие детали стихотворения можно, по мнению Хелемского, соотнести с деталями брейгелевских картин. Одновременно Хелемский отмечает: «Русское поклонение волхвов Пастернак столь же смело запечатлел на родном переделкинском фоне».
Дальше он упоминает, как заоконный ландшафт Переделкина, открывающийся с фасадной стороны дачи, мог бы быть воспроизведен в зимнем варианте:Вдали было поле в снегу и погост, Ограды, надгробья, Оглобля в сугробе, И небо над кладбищем, полное звезд.
В то время как вид с другой стороны дома соотносим с описанием в другом отрывке:Часть пруда скрывали верхушки ольхи, Но часть было видно отлично отсюда Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Повторяем, Бродский, предлагая выделить в «Рождественской звезде» Пастернака тематико-образные элементы итальянской живописи, называет даже двух художников (быть может, имея в виду именно свое собственное стихотворение?): Андреа Мантенья и Джованни Беллини.
Именно от этого предложения стоит, может быть, начать анализ пастернаковских стихов, упомянув также заметку И. А. Сухановой, где рядом с фламандскими живописцами, в частности Брейгелем Старшим, в связи с описанием процессии волхвов упоминается Беноццо Гоццоли I, его фреска «с извивающейся по горам процессией» и отмечается «скопление большого количества людей при поклонении волхвов», как «на картинах Фра Анджелико, Джентиле да Фабриано, Боттичелли, Леонардо и др.».
Если остановиться на «Поклонении волхвов» Мантеньи — Пастернак мог знать эту картину, хранящуюся в Уффици,— то определить здесь точные аналогичные детали трудно, но, безусловно, можно согласиться с определенной общностью композиционной структуры. В частности, можно отметить согласованность нескольких образов и их общей композиции. Например, в следующих случаях:За ними везли на верблюдах дары. И ослики в сбруе, один малорослей Другого, шажками спускались с горы. И странным виденьем грядущей поры Вставало вдали все пришедшее после… И только волхвов из несметного сброда Впустила Мария в отверстье скалы…. …с порога на Деву, Как гостья, смотрела звезда Рождества…
 Можно уловить некоторое сходство между картиной Мантеньи и стихотворением Пастернака.
Можно уловить некоторое сходство между картиной Мантеньи и стихотворением Пастернака.
Однако пастернаковское стихотворение сочетает многие другие образы, как сочетает и разные тематические и картинные подтексты. Скорее всего, у него это не цитата из Мантеньи, а общая реминисценция. Тем более такое определение относится к возможным подтекстам из Беллини и многих других итальянских художников: Беато Анджелико, Беноццо Гоццоли, Джентиле да Фабриано, Боттичелли, Липпи и других художников до Рафаэля.
Но на самом деле более существенным является определение возможных картинных прототипов стихотворения на основе самого творчества и биографии поэта, так как общие, неопределенные поиски в огромном художественном наследии итальянской живописи, боюсь, приведут лишь к натянутым и не очень убедительным заключениям.
С этой точки зрения стоит обратить внимание на описание Венеции, которое Пастернак развивает в «Охранной грамоте» (часть вторая, гл. 13). Здесь мы читаем:
«Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизнотаможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помои, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображенье Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится мне.
Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.
Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятья о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.
Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний. Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений».
Конечно, соотношение визуально-цветового представления о Венеции с евангельской картиной Рождества особенно значительно для визуально-образного представления Пастернака о «звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов». Интересно отметить, как Пастернак вводит слово «маги», которое, как тонко указывает Л. Флейшман, связано с понятием «чудо». Оно, по-видимому, соотносимо с итальянским magi (волхвы), что и объясняет применение Пастернаком слова «звездочет» в «Рождественской звезде».
В приведенном отрывке есть еще очень интересное указание: «Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов». Тут возникает весьма существенный вопрос. Конечно, ссылка на прерафаэлитов сразу приводит на ум группу английских художников XIX века, ориентировавшихся на итальянское искусство раннего Возрождения, но одновременно она может подразумевать и непосредственно самих итальянских художников до Рафаэля, о которых мы писали чуть выше.
О своем понимании итальянской живописи Пастернак в «Охранной грамоте» пишет: «Надо видеть Карпаччио и Беллини, чтобы понять, что такое изображение». Чуть ниже: «Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство»; «Надо видеть Микеланджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник».
Конечно, такие художники, как Карпаччио и Беллини, могли усилить у Пастернака тенденцию к сочетанию сакральной тематики и бытовых деталей, но точные отсылки определить трудно.
Самое интересное для нас высказывание встречается дальше, когда мы читаем:
«Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством,— это ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.
Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов и как по-разному — как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в Воскресенье с веком Возрождения — явление необычайное и для всей европейской образованности центральное.
Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих „Введений“, „Вознесений“, „Бракосочетаний в Кане“ и „Тайных вечерь“ с их разнузданно великосветской роскошью?
И вот именно в этом несоответствии сказалась мне тысячелетняя особенность нашей культуры.
Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и, пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение».
В этих словах можно отметить интересные элементы для нашего разбора. Это, конечно, прежде всего большая любовь Пастернака к итальянскому искусству, но здесь, на мой взгляд, очень важны два высказывания: с одной стороны, идея о «единстве нашей культуры», с другой — утверждение о том, что Италия «кристаллизовала» для Пастернака то, «чем мы бессознательно дышим с колыбели». Они помогают, на мой взгляд, уловить глубокий смысл образной структуры стихотворения «Рождественская звезда», будучи соотносимы с определенной интерпретацией следующего отрывка стихотворения:Все мысли веков, все мечты, все миры, Все будущее галерей и музеев, Все шалости фей, все дела чародеев, Все елки на свете, все сны детворы.
 Изображение Рождества и поклонения волхвов, предложенное Пастернаком, является синтезом общечеловеческого художественного видения евангельского рассказа. Отсюда гениальное сочетание разных художественных концепций изображения, от русской иконописи до западной картинной живописи, как фламандского, так и итальянского образца. Отсюда идея о «всем будущем галерей и музеев». Пастернаковское изображение Рождества синтезирует вековую традицию, но как реалистическое изображение события (отсюда внимание к бытовым деталям) оно в то же время опережает всю последующую изобразительную традицию Рождества и поклонения волхвов.
Изображение Рождества и поклонения волхвов, предложенное Пастернаком, является синтезом общечеловеческого художественного видения евангельского рассказа. Отсюда гениальное сочетание разных художественных концепций изображения, от русской иконописи до западной картинной живописи, как фламандского, так и итальянского образца. Отсюда идея о «всем будущем галерей и музеев». Пастернаковское изображение Рождества синтезирует вековую традицию, но как реалистическое изображение события (отсюда внимание к бытовым деталям) оно в то же время опережает всю последующую изобразительную традицию Рождества и поклонения волхвов.
Про стихи «Все мысли веков, все мечты, все миры,/Все будущее галерей и музеев…» Вяч. Вс. Иванов прозорливо отмечает:
«Это будущее предопределено Рождеством. Европейская художественная традиция для Пастернака целиком вырастает из картин на евангельские темы».
Одновременно это подтверждение глубоко религиозного отношения Пастернака к искусству и, главное, к жизни.
То, что в этом творческом процессе существенную роль играла итальянская живопись, подтверждает последующее высказывание об Италии, которая кристаллизовала то, «чем мы бессознательно дышим с колыбели». В итальянской живописи можно разглядеть все, что с рождения уже глубоко лежит в душе человека.
Конечно, все сказанное заставляет смотреть несколько иначе на вопрос об изобразительных прообразах стихотворения Пастернака. Возможные образные итальянские реминисценции, с одной стороны, входят в общее русло «бессознательного культурного фонда», с другой — растворяются на синтетическом художественном фоне пастернаковской картины Рождества.
Как известно, и много об этом писалось, блоковская тема глубоко пронизывает концепцию и суть «Доктора Живаго», и в этой перспективе стихотворение «Рождественская звезда» занимает особое место. Юрий Живаго обещал Гордону для его студенческого журнала статью о Блоке. В романе читаем: «…теплилась святочная жизнь Москвы, горели елки, толпились гости и играли в прятки и колечко дурачащиеся ряженые. Вдруг Юра подумал, что Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом».
Итак, в романном сюжете стихотворение «Рождественская звезда» прямо восходит к Блоку. Кроме того, важно представление Рождества как северного явления с морозом и еловым лесом, не считая детали о голландской живописи. Что касается мороза, разумеется, приходят в голову русский пейзаж, переделкинские картины, русская икона «Рождество Христово» со спецификой «иконного» видения описываемого события и мира в целом. Однако если помнить о блоковской направленности стихотворения, то сразу приходит на ум стихотворение Блока «Второе крещение», которое, как известно, Е. Б. Пастернак соотносит с другим живаговским стихотворением «Рассвет». Соотношение с блоковским «Вторым крещением» открывает и другую интертекстуальную перспективу. Имеется в виду третье стихотворение блоковского цикла «Венеция» и, в частности, строфы:И неужель в грядущем веке Младенцу мне — велит судьба Впервые дрогнувшие веки Открыть у львиного столба? Мать, что поют глухие струны? Уж ты мечтаешь, может быть, Меня от ветра, от лагуны Священной шалью оградить?
Идея о новом рождении в Венеции, образ священной шали представляет явный намек на образ Рождества. Дальше у Блока видение исчезает, как вечерний мираж: «Нет! Все, что есть, что было — живо!/Мечты, виденья, думы — прочь!/Волна возвратного прилива/Бросает в бархатную ночь!»
Образ рождения и Рождества — у Львиного столба в Венеции явно напоминает многочисленные изображения Рождества и поклонения волхвов итальянской живописи, когда художники вводят в традиционную иконографию Рождества античные, средневековые и ренессансные скульптурно-архитектурные детали. Здесь изображение Льва святого Марка, покровителя Венеции.
Уже из этого беглого обзора блоковского пласта пастернаковского стихотворения становится ясно, что образную структуру стихотворения «Рождественская звезда» следует одновременно определять на основе как изобразительных, так и литературных подтекстов. Его синтетический характер подтверждается полностью — синтетический еще и потому, что оно одновременно сочинение Пастернака и его героя Живаго. В нем «кристаллизующая Италия» является и «кристаллизующей русско-поэтической Италией». Думается, что анализ и других русских поэтических картин кроме блоковского цикла даст много материала для размышления.
Наконец, стоит подчеркнуть значение самой Венеции для рождественской темы у Пастернака. Дмитрий Быков отмечает, как «Венеция у Пастернака включена в круг рождественских явлений — и ее колоритом отчасти подсказана будущая палитра „Рождественской звезды“… Восток стилизованный, прерафаэлитский, синий и звездный, Восток „Тысячи и одной ночи“, минаретов, базаров — тоже входит в его представление о Рождестве, и все это увязывается в один причудливый узел: русская зима, райское отрочество, детский праздник, влюбленность, Христос, волхвы».
Безусловно, к этому «причудливому узлу» стоит добавить и весь изобразительный комплекс итальянской живописи на тему Рождества.Стефано ГАРДЗОНИО (Флоренция)
11 января 2008
Татьянин День
|
Рассвет
Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, И долго-долго о Тебе Ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я Твой Завет И как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, В их утреннее оживленье. Я все готов разнесть в щепу И всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, Как будто выхожу впервые На эти улицы в снегу И вымершие мостовые. Везде встают, огни, уют, Пьют чай, торопятся к трамваям. В теченье нескольких минут Вид города неузнаваем. В воротах вьюга вяжет сеть Из густо падающих хлопьев, И чтобы во-время поспеть, Все мчатся недоев-недопив. Я чувствую за них за всех, Как будто побывал в их шкуре, Я таю сам, как тает снег, Я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен, Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, И только в том моя победа. 1947 |