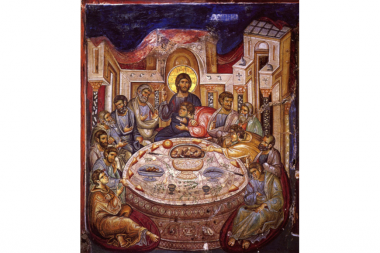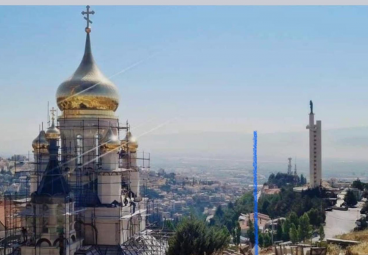Религиозные мотивы в поэзии Анны Ахматовой. М.С. Руденко
“Доказывать, что Анна Ахматова была христианским поэтом, не приходится. Слишком явна христианская тональность ее поэзии, слишком отчетливы свидетельства о ней или ее собственные, хотя редкие, высказывания. Напомню кратко известное „утешительное“ письмо Пастернака 1940 года, в котором он называет ее „истинной христианкой“ <…> У нее, и в этом ее исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала христианкой, она ею неизменно была всю жизнь"[1].
Религиозные мотивы в стихах Ахматовой имеют определенную культурно-историческую и идеологическую основу соответствующих реалий: библейско-евангельские цитаты и реминисценции, имена, упоминаемые даты, святыни создают особую атмосферу в ее творчестве.
Наряду со стихами, в чем-то близкими к молитве и пророческому обличению, встречаются произведения совершенно иного плана. Их можно счесть проявлениями „простой бытовой религиозности“[2], а иногда и невольного кощунства.
Так, крест для ахматовской героини — не только знак „сораспятия“ Христу, но и „золотой нательный крестик“, которым можно расплатиться с цыганкой за гадание о женихе („У самого моря“), „залог любви“ („Черная вилась дорога…“), памятный сувенир о бывшем возлюбленном („Когда в мрачнейшей из столиц…“) и даже как бы некий амулет, приносящий удачу в страстной любви („Побег“). В стихах такого плана налицо некий комплекс культурологии, мифологизма, кощунства и тонкого соблазна, в той или иной степени присущий самой атмосфере „серебряного века“. В них мы находим множество предчувствий, примет, снов и гаданий, отождествление земного возлюбленного с женихом, ожидающим венчания, почти молитвенные обращения к Музе, как известно, все же демоническому существу (хотя это, конечно, условность, поэтическое иносказание).
Есть и прямо нехристианское отношение к действительности, особенно в связи с темой смерти. Для человека, сознающего себя христианином, невозможно молить Бога о смерти, „томясь в неволе“, а тем более утешать себя мыслями о самоубийстве. Но героиня даже просит на это благословения: „И я стану — Христос помоги! — / На покров этот, светлый и ломкий“[3]. Заметим также, что в ранних стихотворениях слово „рай“ применимо обычно к другим: это путь д р у г о г о; свое чаще — ад: любовь, смерть, посмертные муки: вообще вся своя „жизнь — проклятый ад!“ („Белой ночью“, 1911, с. 37).
Безусловно, религиозность Ахматовой была и поэтической, поэтизирующей, преображающей мир. Религия расширяла сферу красоты, включая и красоту чувства, и красоту святости, и красоту церковного благолепия. С годами поэзия Ахматовой становится в духовном плане более уравновешенной и строгой, усиление гражданского звучания сопровождается углублением изначально присущего ей христианского мироощущения, мыслью о сознательно избранном жертвенном пути.
Но самые сокровенные чувства почти зашифрованы, утаены от профанного взгляда; часто, чтобы проследить до конца мысль поэта, необходимо уловить особую роль той или иной интонации, слова, цитаты. О сдержанном целомудрии творчества Ахматовой писал В. М. Жирмунский: „Она не говорит о себе непосредственно, она рассказывает о внешней обстановке душевного явления, о событиях внешней жизни и о предметах внешнего мира, и только в своеобразном выборе этих предметов и меняющемся восприятии их чувствуется подлинное настроение, то особенное душевное содержание, которое вложено в слова“[4]. Действительно, у Ахматовой почти нет чисто религиозных стихотворений, она редко говорит о предметах веры напрямую. „Церковные имена и предметы никогда не служат ей главными темами; она лишь мимоходом упоминает о них, но они так пропитали ее духовную жизнь, что при их посредстве она лирически выражает самые разнообразные чувства“,— отмечал К. И. Чуковский[5].
Даже цитируя, Ахматова редко заявляет не свои слова как цитату, хотя обычно имеется довольно определенная отсылка к тексту или событию. Каждая из реминисценций нуждается в интерпретации и комментарии; в данной статье придется ограничиться несколькими примерами.
В стихотворении „Дал Ты мне молодость трудную…“ (1912) — ряд евангельских реминисценций, значимых в общем покаянном тоне стихотворения. Так, отсылают к Евангелию строки: „Господи! я нерадивая, /Твоя скупая раба“ (с. 62). У этих, казалось бы, общих слов есть точный адрес. Это притча о злом рабе (Мф. 18, 23-35), которому хозяин (Господь) простил огромный долг, но тем не смягчил ожесточенного, скупого сердца. О „нерадивом рабе“ сказано у Матфея (25, 14-31) и у Луки (19, 12-27) в притче, известной в обиходе как притча о талантах (минах). У нее есть одна особенность: в обоих источниках она звучит в контексте слов Христа о Втором пришествии. Эсхатологическкй характер притчи заявлен в первой же фразе: „Итак бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий“ (Мф. 25, 13). Похожий текст мы находим и у Луки.
Притча о талантах — это притча о Суде, об ответственности, которую человек несет за собственную жизнь как за дар Бога, о воздаянии за внутреннюю способность понять и принять свое назначение, ибо „…имеющему дастся и приумножится; а у не имеющего отнимется и то, что он имеет“ (Мф. 25, 29). О верном и нерадивом рабах говорит Христос еще в одной притче — с призывом к постоянному „бодрствованию“ ввиду того, что никому не известен час Пришествия Сына Человеческого (Мф. 24, 42–51; Лк. 12, 36-48). Это пророчество Ахматова затем недвусмысленно повторила: „Скоро будет последний суд“ („Как ты можешь смотреть на Неву…“, 1914, с. 83).
В „Песне о песне“ (1916) евангельская цитата звучит в общем контексте размышлений о пути и предназначении поэта, здесь — не только избранника, но и Божьего раба, в простоте сердца исполняющего „все повеленное“ и не требующего какой-то особенной благодарности или мзды за свой труд. В связи с этим вспоминается вопрос о стихах, заданный примерно в то же время оптинскому старцу Нектарию (Тихонову), с которым уже после революции Ахматова имела несколько бесед. „Заниматься искусством можно, как и всяким делом, как столярничать или коров пасти, но все это надо делать как бы перед взором Божиим… Есть и большое искусство — слово убивающее и воскрешающее (псалмы Давида, например), но путь к этому искусству лежит через личный подвиг художника, это путь жертвенный, и один из многих тысяч доходит до цели“,— сказал старец[6].
Смиренный, как известно, просит у Бога только сил, терпения и благословения на труд. Именно такого благословения на общее дело просит героиня стихотворения: „Я только сею. Собирать / Придут другие. Что же! / И жниц ликующую рать / Благослови, о Боже!“ (с. 74). Сравним: „Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: „один сеет, а другой жнет““ (Ин. 4, 36-37).
С пониманием поэзии как благословенного труда и поэта как „Божьего раба“ в самом широком смысле слова, включающем и избранничество, и жертвенность, и смиренное сознание своей немощи, и то „послушание“, благую подневольность, что основывается на полном доверии Творцу, связано стихотворение „Я так молилась: „Утоли…““ (1913). Тема отвергнутой жертвы как наказания или особого испытания, посылаемого призванному на высокое служение, не случайна у Ахматовой. Возможно, это связано с эпизодом жития св. праведной Анны, празднуемым 9/22 декабря как церковный праздник Зачатия св. Анной Пресвятой Богородицы. В этот день отмечается память еще одной святой Анны-пророчицы, а также иконы Божией Матери, именуемой „Нечаянная радость“.
В ахматовском стихотворении появляется „дым от жертвы, что не мог / Взлететь к престолу Сил и Славы, / А только стелется у ног, / Молитвенно целуя травы…“ (с. 79). Сложное учение о видах жертв, характере, способе и цели их принесения подробно изложено в Ветхом завете. Там мы находим и мотив небесного огня, попаляющего жертву праведного, и признаки Божьего „отношения“ к приносящему жертву. Стелющийся по земле дым — знак неблагоприятный; так, например, в повествовании о жертвах Авеля и Каина. Об одной из самых знаменательных жертв рассказывается в III Книге Царств. Ее принес пророк Илия на горе Кармил во время испытания силы Бога Израиля и Ваала. Знаком победы должен был послужить небесный огонь, попаляющий жертву (тушу тельца) без участия огня земного. Усилия жрецов Ваала были бесплодны, тогда как по молитве Илии на жертвенник, залитый к тому же водой, „ниспал огонь Господень“.
Прося у Бога милости, героиня вспоминает и евангельские исцеления слепых и немых: „Так я, Господь, простерта ниц: / Коснется ли огонь небесный / Моих сомкнувшихся ресниц / И немоты моей чудесной?“ (с. 79). В Евангелии физическая немощь часто — знак немощи духовной. Так сомкнувшая ресницы слепота означает не только внешний мрак, но и помрачение души — грехом или неверием. Как в рассказе об исцелении слепых: „Веруете ли, что Я могу это сделать?“ — …"ей, Господи!" — … — И открылись глаза их" (Мф. 9, 28-29). В христианской традиции немота — нередко и знак „высшего знания“, соприкосновения с реальностью иного мира, особый аскетический подвиг безмолвия. Молчание есть добродетель и награда „будущего века“. Посвященный в последнюю тайну молчит — от полноты знания. Немота бывает таинственна и священна. У Ахматовой она „чудесна“. В соответствии с принципом своеобразного выбора предметов внешнего мира, столь значимым, по мысли В. М. Жирмунского, для Ахматовой, находятся связанные с религией реалии, которых немало в ее стихах. Касаясь здесь лишь внешней, фактической стороны вопроса, хочется все же отметить, что значение этих реалий не ограничивается воссозданием внутреннего облика героини, но распространяется на область символов и знаков.
В стихотворении „Стал мне реже сниться, слава Богу…“ (1912), где явно присутствует восприятие о Светлой Седмице, единственной в году, когда весь день действительно не замолкают звоны колоколен, на которые пускают всех, желающих таким образом возвестить о Воскресении Христовом, есть загадочные в своей невнятности, столь редкой и непривычной у Ахматовой, строки: „Здесь всего сильнее от Ионы / Колокольни Лаврские вдали“ (с. 105). Иону в лучшем случае трактуют как „Ионинский монастырь в Киеве“[7]. Но подобного монастыря в Киеве не было и нет. Речь идет о киевском Свято-Троицком мужском монастыре, расположенном на правом берегу Днепра, в нескольких километрах от Киево-Печерской лавры. Он был основан и отстроен подвижником — старцем Ионой, не успевшим увидеть исполнения заветной мечты — окончания постройки грандиозной колокольни, для которой, впрочем, он успел приобрести в 1896 году колокол весом 1150 пудов. Старец Иона скончался 9 января 1902 года, приняв схиму с именем Петра[8].
Упоминание о другой киевской святыне мы находим в позднейшем стихотворении „Широко распахнуты ворота…“ (1921): „И темна сухая позолота / Нерушимой вогнутой стены“ (с. 170). В этих строках говорится о знаменитом мозаичном золотофонном изображении Богоматери Оранты в конхе абсиды алтаря Софийского собора, имевшем, как считалось, чудотворную силу. Этот иконографический тип, напоминающий верующим об особом молитвенном предстательстве и заступничестве Божией Матери за весь мир, получил в народе название „Божья Матерь Нерушимая Стена“ (память 31 мая и в Неделю Всех Святых).
В реальном комментарии нуждается и ранняя поэма Ахматовой „У самого моря“ (1914), например следующий ряд строк: "И мне монах у ворот Херсонеса / Говорил: „Что ты бродишь ночью?“; „…я стану монахом / …y вас в Херсонесе“; „В нижней церкви служили молебны“; „И приносил к нам соленый ветер / Из Херсонеса звон пасхальный“ (с. 121, 122, 124, 125). Слово „Херсонес“ в современном сознании вызывает прежде всего образ раскопок античного города и не связывается ни с монастырем, ни с пасхальным звоном. Но в поэме упоминается именно православный херсонесский мужской Свято-Владимирский монастырь[9].
История основания в окрестностях Севастополя этого монастыря связана с открытием во время археологических раскопок 1848 года архиепископом херсонесским Иннокентием и графом Уваровым на центральной площади Херсонеса, пустынной, мертвой Корсуни, остатков нескольких церквей. Одна из них, имевшая две крещальни, была признана за церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, где, как считалось, был крещен князь Владимир.
Уже 4 мая 1850 года на этом месте состоялось торжественное открытие мужского монастыря, а в 1853-м освящена небольшая церковь во имя св. равноапостольной княгини Ольги. Во время Крымской войны монастырь сильно пострадал, но вскоре был восстановлен и в 1861 году получил степень первоклассного. Упоминаемый в поэме храм был заложен при участии Александра II, построен по проекту академика Гримма и освящен во имя св. равноапостольного князя Владимира. В основу проекта легла ранневизантийская базилика: план в виде равностороннего креста, множество колонн и тройных окон, большое круглое внутреннее пространство, перекрытое полусферическими куполами. Церковь была двухэтажная, со множеством приделов. В нижнем этаже, „нижней церкви“, престол был освящен во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Там сохранялись остатки древнего храма — предполагаемого свидетеля крещения св. Владимира, указано место купели. Сложная символика поэмы связана, впрочем весьма опосредованно, с евангельскими событиями, воспоминанию которых посвящены Страстная и Светлая Седмицы. Так, сюжетная линия „мертвого жениха“ имеет, помимо мифологического, символического, культурно-исторического и прочих аспектов, определенную аналогию в службах Страстной и Светлой. В таком случае „жених“ — „Царевич“, Сын Царя Царствующих и Бога Господствующих; ожидающая его появления девушка — „мудрая дева“ из притчи, „Христова Невеста“, по примеру св. великомученицы Екатерины отвергшая земного жениха ради того, кто возьмет ее в Царство. Тогда строки: „Слышала я — над царевичем пели: / „Христос воскресе из мертвых“,— / И несказанным светом сияла/Круглая церковь“ (с. 127) — можно интерпретировать не только как описание отпевания по пасхальному чину, но и как возглашаемый над Плащаницей (кстати, тема Плащаницы звучит в поэме очень отчетливо) тропарь (глас 5): „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав“, что следует сразу за стихирой (глас 5) „Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…“, открывающей Пасхальную заутреню. Напомним также, что Кувуклия — часть храма Гроба Господня в Иерусалиме — имеет круглую форму, сродни ротонде.
Вообще, тематика Страстной (и связанное с ней понимание личной жертвы, жизни как крестного пути, идеи искупления и высокого смысла страдания) занимает особое место в поэзии Ахматовой. В ранний период она особенно сильна в стихах о войне 1914 года, событиях 1917 года и неотрывных от них личных утратах. Здесь происходит и определенное переосмысление задач и подвига поэта-христианина и патриота. В свете тех же событий начинает отчетливо звучать тема „последних времен“, приближения Антихриста, конца света и Страшного Суда. Тема „исполняющихся сроков“ и сбывающихся пророчеств.
Вся Россия знала, что день объявления войны пришелся на день памяти старца Серафима Саровского. Канонизация и обретение мощей преподобного, издавна чтимого и простым народом, и царской семьей, без преувеличения всколыхнула Россию. Появились многочисленные свидетельства о преподобном, в том числе знаменитая чичаговская „Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря“ (СПб., 1903). Стали широко известны и казавшиеся в то время несбыточно-страшными пророчества старца о судьбах России. Среди прочего он говорил: „До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее…“ Однако, открывая в подробностях страшную судьбу Отечества и Церкви, старец утешал: „…но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе“[10].
Существуют также свидетельства о письме старца, адресованном „Императору Николаю II“, которое было написано задолго до рождения последнего русского императора, где полностью был предсказан его путь, отречение и кончина[11]. С темой этого предсказания перекликаются ахматовский цикл „Июль 1914“ и примыкающие к нему по смыслу стихотворения „Утешение“, „Молитва“, „Памяти 19 июля 1914 года“ и некоторые другие. Апокалиптические строки из „Июля 1914“: „Сроки страшные близятся. Скоро / Станет тесно от свежих могил. / Ждите глада, и труса, и мора, / И затменья небесных светил“ (с. 97), кроме того,— прямая цитата из Нового завета. Слова Христа о последних временах особенно подробно переданы у Матфея (гл. 24) и у Луки (21, 9–11 и 25-27). В Евангелии от Луки читаем: „Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надлежит быть прежде: но не тотчас конец… восстанет народ на народ и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба…“ (Лк. 21, 9-11). Но, по обетованию Христа, после страданий придет великое утешение. Об этой же надежде говорится в стихотворении: „Богородица белый расстелет / Над скорбями великими плат“ (с. 97),— пишет Ахматова, вспоминая один из любимейших на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы, связанный с надеждой на особое заступничество Богоматери. Впрочем, заключительные строки цикла возвращают читателя к переживаниям Страстной, без которых „слава лучей“ („Молитва“) невозможна.
„Ранят Тело Твое пресвятое / Мечут жребий о ризах Твоих“ (с. 97) — это переложение строк из 21-го псалма Давида: „Разделиша ризы моя себе, и о одежди моей меташа жребий“ (Пс, 21, 19). Это пророчество о страданиях Спасителя повторено в одном из Страстных Евангелий, читаемых за вечерней службой Великого четверга: "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак, сказали друг другу: „Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет,— да сбудется реченное в Писании: „Разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий““ (Ин. 19, 23-24). Эти же слова слышим мы в Прокимне (глас 4) Утрени Великого Пятка.
Так цикл „Июль 1914“ напоминает России о грядущем кресте. А о будущей крестной славе говорит „Молитва“, в которой звучит уже, продолжая тему Страстной, ликующее предощущение Воскресения, так точно переданное в последнем, 15-м антифоне Утрени Великого Пятка: „…поклоняемся страстем Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение“. Мотив сораспятия как добровольного отречения ради высокой цели от всего, что дорого на земле,— ведущий в „Молитве“. И не случайна в этом контексте строка: „Так молюсь за Твоей литургией“ (с. 99). Ведь литургия и есть „бескровная жертва“, прообраз жертвы Голгофской. Вспомним: в предельно насыщенной и вместе с тем сдержанной поэзии Ахматовой случайностей нет; так, значима и не случайна рифма „литургией — Россией“, сближающая таинственные смыслы.
Но не только эта предельно высокая нота звучит в религиозной тематике Ахматовой. Существенное место, особенно в ранней лирике, занимают произведения, среди которых показательно, например, такое, как „Под крышей промерзшей пустого жилья…“ (1915). Перечисление названий читаемых книг — всегда знак определенного внутреннего состояния человека. „Читаю посланья Апостолов я…“ (с. 83). К этой книге учительного характера люди издревле обращались в трудную минуту и в поисках ответа на мучительный вопрос. Эта книга — опора, книга — безусловный авторитет.
С другой стороны, „слова Псалмопевца“, т. е. Псалтырь царя Давида — одна из любимейших книг православной Руси. В этом необычном сборнике религиозной лирики сосредоточены чувства, страдания, радости, невзгоды и обретения живой человеческой души. Психологическая и духовная универсальность Псалтыря, в сочетании с художественным своеобразием делает ее собеседником на все времена. Ее пронизывает чувство особой близости Бога, ощущение возможности обо всем попросить, пожаловаться, даже пороптать. Псалтирь — это и источник поэтического вдохновения, воплотившегося в целую традицию стихотворных переложений. По церковному верованию, Псалтырь отгоняет бесов, помогая справиться с растерянностью и отчаянием, благодарно принять печаль и радость. В чтении Псалтыря находит успокоение и утешение и героиня стихотворения, охваченная сложными, противоречивыми чувствами.
„А в Библии красный кленовый лист/Заложен на Песни Песней“ (с. 83). „Песнь Песней“ — одна из книг, связанная с именем царя Соломона, лишь обыденному, не воцерковленному сознанию кажется странным, чуть ли не эротическим „всхлипом плоти“, непонятно как ворвавшимся в строгую гармонию священных гимнов. Предельно близкое, „родное“ ощущение Бога, растворение в Боге всей личности вплоть до житейских мелочей и земных эмоций, вообще характерное для Ветхого завета, особенно ярко проявилось в „Песни Песней“. Внешний, событийный ее ряд — история последней любви царственного мудреца — имеет для христианина некий таинственный высший смысл: это вдохновенная песнь о „романе“ души и Бога, Христа и Церкви. „Я Господу сердце свое отдала“,— пишет Ахматова в первой строфе, не вошедшей в основной текст стихотворения (с. 381). „Песнь Песней“ славит ту божественную любовь, слабой тенью которой мыслится даже самое глубокое земное чувство,— ту любовь, которая есть имя Бога и которую монастырские старцы сравнивали с „неким опьянением“, а Христос уподобил отношениям жениха и невесты, мужа и жены — земному браку как отражению жертвенной, всепоглощающей любви.
Думается, Ахматовой, особенно в ранний период творчества, весьма близок именно библейский взгляд на мир, когда все, что не грех, благословенно. Богатство, раздолье, буйство чувств, вся „прелесть милой жизни“ („Эпические мотивы. 3“, 1915, с. 160) для Библии — „добро есть“. Дух самоотречения и аскезы не превалирует в Ветхом завете; Библия, напротив, как бы сакрализует, освящает мирскую жизнь, принимая и понимая в ней, кажется, все, кроме богоотступничества, разрушения и разврата. Она, в общем, достаточно снисходительна к заблуждению, по-отечески мягка в отношении грешника; она допускает и откровенное любование „дольним миром“, и „вопль души“. Библейское цветение и разнообразие чувств и красок точно переданы Ахматовой в цикле „Библейские стихи“: „Рахиль“ (1921), „Лотова жена“ (1924), „Мелхола“ (1922, 1959-1961). Именно библейское мироощущение позволяет невесте открыто, даже чувственно[12] желать жениха, как будущего мужа и отца детей, отцу — идти на хитрость ради счастья неудачливой дочери. „…Каждый простится обман / Во славу Лаванова дома“ (с. 152). Подобное мироощущение — отстаивание права просто жить, любить, рожать, строить, воевать, петь, плакать и молиться, грешить, каяться и снова жить, полноценно и ярко. Библия оставляет человеку право на „любовь, что сильнее смерти“, даже к падшему и погибающему в грехах „городу и миру“. „Содому“ „Лотовой жены“, Петербургу Ахматовой, как и Городу Булгакова, любимому и грешному, „платящему по счетам“, но не до конца забытому Богом (хотя бы в лице праведников). Мотив наказанной любви-жалости к родному городу-преступнику, так болезненно и ярко прозвучавший в „Лотовой жене“, проходит через все творчество Ахматовой, вплоть до „Реквиема“, „Поэмы без героя“, военных стихов и „Царскосельской оды“.
Необходимо отметить, что в момент увлечения у Ахматовой „библейский взгляд“ переходит в „поминание имени Божия всуе“, в „бытовое“ православие в негативном смысле слова, а то и, как говорилось выше, в кощунство. Примеров „бытовых“ кощунств не так уж мало в ранней поэзии Ахматовой.
В этом смысле весьма характерно, при всех неоспоримых литературно-художественных достоинствах, стихотворение „Был блаженной моей колыбелью…“ (1914). „Солеёю молений“ своих (с. 82) именует героиня любимый город. Но солея, возвышение перед алтарем, отделенное тремя ступенями от основного пространства храма, вовсе не место для подобных „молений“ (иными словами, исполнения стихов), тем более дамы. На солее молится клир: поет хор, возглашает ектеньи и читает Евангелие дьякон; солея предназначена для Малого и Великого входов священнослужителей во время литургии, в центре солеи, на амвоне, напротив Царских врат, стоит священник, произнося Светильничные и другие молитвы, говоря проповедь; отсюда он причащает народ, благословляет, подает после службы крест. В контексте этого стихотворения „жених“, указавший героине „путь осиянный“, конечно, не Жених Небесный св. Екатерины и вообще даже не жених, будущий законный супруг, а просто возлюбленный, и „путь“, указанный им, освещен вполне земной страстью. Присутствующие при этом „молодые Серафимы“ как-то не связываются с ближайшими к Богу Ангелами, но более похожи на пухлых барочно-порочных херувимчиков XVIII столетия. В стихотворении они держат венки над „торжественной брачной постелью“ той же светской дамы. Не случайно в качестве поводыря слепой души здесь появляется Муза.
Таков же дух стихотворения „Будем вместе, милый, вместе…“ (1915). В нем страсть вполне кощунственно отождествляется с христианским таинством брака, прообразующего, как известно, мистический союз Христа и Церкви. Соответственно и „эта церковь“ (с. 106) (не „храм“ ли „любви“ с „алтарем Венериным“?) именно „сверкала“ и именно „неистовым сияньем“, что может напомнить и о главном обольстителе по имени Денница-Люцифер.
Подобного же рода игривостями „в стиле модерн“ изобилует и „Побег“ (1914), где нательный крестик выступает в роли амулета, приносящего удачу в любовных делах, а „свет нетленного дня“ (с. 91), встреченный „на палубе белой яхты“, имеет, пожалуй, тот же источник, что и вышепоименованные „осиянный путь“ и „неистовое сиянье“. В этом смысле определенным апофеозом видятся строки из прекрасного с чисто литературной точки зрения стихотворения „Тяжела ты, любовная память!..“ (1914): „Для того ли я, Господи, пела, / Для того ль причастилась любви!“ (с. 76). Православная христианка, какой была Ахматова, не могла не знать, что таинство Причащения — величайшее в Православной Церкви, что оно являет благодатное соединение человека с Христом в результате пресуществления вина и хлеба. Причаститься может только крещеный верующий, приготовивший себя молитвой, постом и покаянием. В данном же стихотворении „причастие любви“ ассоциируется не с христианством, а чуть ли не со стилистикой „черной мессы“, хлыстовства или распутинских бесчинств. Ведь здесь, очевидно, под „любовью“ понимается страсть, земная и неистовая. Вполне понятно, что после такого „причастия“ возникает на горизонте „осиянное забвение“ „Мастера и Маргариты“ и самоубийственное желание отравы и немоты.
Некоторую вину „неблагочестия“ и свою лично, и своей эпохи, Ахматова, с ее верным духовным чутьем, безусловно, ощущала. И далеко не случайно в ее поэзии рядом с темой искупительной жертвы возникает именно тема расплаты, вины и праведного Суда. Тема сложная, неисчерпаемая, как все, что связано с глубинными пластами творчества этого великого поэта XX века.
___________
Примечания
[1]. Струве Н. Бог Анны Ахматовой // Струве Н. Православие и культура. М., 1992. С. 243–244.
[2]. Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика Стилистика. Л., 1977. С. 120.
[3]. Ахматова А. Соч.: В 2 т. Сост. и подготовка текста М. М. Кралина. М., 1990. Т. 1. С. 54. Далее ссылки на этот том даются в тексте с указанием страницы.
[4]. Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 116.
[5]. Чуковский К. И. Ахматова и Маяковский // Вопросы литературы. 1988. № 1. С. 180–181.
[6]. Руденко М. Причастник Фаворского света // Православная беседа. 1993. № 2. С. 19.
[7]. Ахматова А. Соч.: В 2 т. Сост., подготовка текста и комментарии В. А. Черных. М., 1986. Т. 1. С. 401 (прим. к с. 105).
[8]. Православные русские обители. СПб., 1910 (репринт — СПб., 1994). С. 585.
[9]. Там же. С. 654–656.
[10]. Угодник Божий Серафим: В 2 т. Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 1993. Т. 1.С. 182–183.
[11]. Там же. С. 179.
[12]. Образ певца Давида для Ахматовой ассоциировался с ее возлюбленным — композитором А. С. Лурье. „Артур Лурье, католик, иудей, к тому же „правительственный комиссар“ не мог не вызывать внутреннего протеста Ахматовой, хотя бы как православной верующей женщины… Но — х о ч е т Мелхола Давида“ — „бешеная кровь“ побеждала и религиозное чувство, и голос рассудка" — пишет М. М. Кралин. (Кралин М. М. Артур и Анна. Л., 1990. С. 207). Думается, насчет победы над религиозным чувством сказано несколько опрометчиво, как и об „иудее“ (в смысле национальности, а не веры) Ахматова была весьма решительной „анти-антисемиткой“ (см.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1989. Кн. 1. С. 197; Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1989. С. 194
Руденко Мария Сергеевна
к.фил.н., ст.преподаватель кафедры истории русской литературы ХХ-ХХI веков Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Опубл.:М. С. Руденко. Вестник Московского университета.— Сер. 9. Филология.— 1995.— № 4.— С. 66–77.