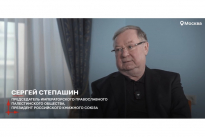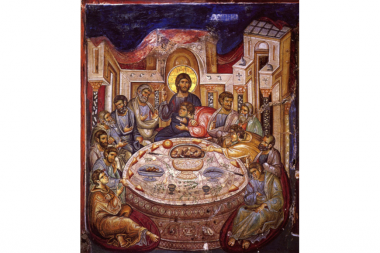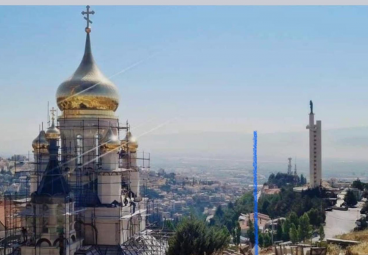Аз Бог Ведаю Глагол Добра (“Избяной космос” как будущность России в “Поддонном псалме” Н. Клюева). Э. Б. Мекш
|
Николай КЛЮЕВ
Поддонный псалом Что напишу и что реку, о Господи! Как лист осиновый все писания, Все книги и начертания: Нет слова неприточного, По звуку неложного, непорочного; Тяжелы душе писанья видимые, И железо живет в буквах библий! О душа моя — чудище поддонное, Стоглавое, многохвостое, тысячепудовое, Прозри и виждь: свет брезжит! Раскрылась лилия, что шире неба, И колесница Зари Прощения Гремит по камням небесным! О ясли рождества моего, Теплая зыбка младенчества, Ясная келья отрочества, Дуб, юность мою осеняющий, Дом крепкий, пространный и убранный, Училище красоты простой И слова воздушного — Как табун белых коней в тумане. О родина моя земная, Русь буреприимная! Ты прими поклон мой вечный, родимая, Свечу мою, бисер слов любви неподкупной, Как гора необхватной, Свежительной и мягкой, Как хвойные омуты кедрового моря! Вижу тебя не женой, одетой в солнце, Не схимницей, возлюбившей гроб и шорохи часов безмолвия, Но бабой-хозяйкой, домовитой и яснозубой, С бедрами как суслон овсяный, С льняным ароматом от одежды… Тебе только тридцать три года — Возраст Христов лебединый, Возраст чайки озерной, Век березы, полной ярого, сладкого сока!.. Твоя изба рудо-желта, Крепко срублена, смольностенна, С духом семги и меда от печи, С балагуром-котом на лежанке И с парчовою сказкой за пряжей. Двор твой светл и скотинушкой тучен, Как холстами укладка невесты; У коров сытно-мерная жвачка, Липки сахарно-белы удои, Шерсть в черед с роговицей линяет, А в глазах человеческий разум; Тишиною вспоенные овцы Шелковистее ветра лесного; Сыты кони овсяной молитвой И подкованы веры железом; Ель Покоя жилье осеняет, А в ветвях ее Сирин гнездится: Учит тайнам глубинным хозяйку, Как взмесить нежных красок опару, Дрожжи звуков всевышних не сквасить, Чтобы выпечь животные хлебы, Пищу жизни, вселенское брашно… Побывал я под чудною елью И отведал животного хлеба, Видел горницу с полкой божничной, Где лежат два ключа золотые: Первый ключ от Могущества Двери, А другой от Ворот Воскрешенья… Боже, сколько алчущих скрипа петель, Взмаха створов дверных и воротных, Миллионы веков у порога, Как туманов полки над поморьем, Как за полночью лед ледовитый!.. Есть моря черноводнее вара, Липче смол и трескового клея И недвижней стопы Саваофа: От земли, словно искра от горна, Как с болот цвет тресты пуховейной, Возлетает душевное тело, Чтоб низринуться в черные воды — В те моря без теченья и ряби; Бьется тело воздушное в черни, Словно в ивовой верше лососка; По борьбе же и смертном биенье От души лоскутами спадает. Дух же — светлую рыбью чешуйку, Паутинку луча золотого — Держит вар безмаячного моря: Под пятой невесомой не гнется И блуждает он, сушей болея… Но едва материк долгожданный, Как слеза за ресницей, забрезжит, Дух становится сохлым скелетом, Хрупче мела, трухлявее трута, С серым коршуном-страхом в глазницах, Смерть вторую нежданно вкушая. Боже, сколько умерших миров, Безымянных вселенских гробов! Аз Бог Ведаю Глагол Добра — Пять знаков чище серебра; За ними вслед: Есть Жизнь Земли — Три буквы — с златом корабли, И напоследок знак Фита — Змея без жала и хвоста… О, Боже сладостный, ужель я в малый миг Родимой речи таинство постиг, Прозрел, что в языке поруганном моем Живет Синайский глас и вышний трубный гром, Что песню мужика «Во зеленых лузях» Создать понудил звук и тайнозренья страх?! По Морю морей плывут корабли с золотом: Они причалят к пристани того, кто братом зовет Сущего, Кто, претерпев телом своим страдание, Всё телесное спасет от гибели И явится Спасителем мира. Приложитесь ко мне, братья,
К язвам рук моих и ног: Боль духовного зачатья Рождеством я перемог! Он родился — цветик алый, Долгочаемый младень: Серый камень, сук опалый Залазурились, как день. Снова голубь Иорданский Над землею воспарил: В зыбке липовой крестьянской Сын спасенья опочил. Бельте девушки, холстины, Печь топите для ковриг: Легче отблеска лучины К нам слетит Архистратиг. Пир мужицкий свят и мирен В хлебном Спасовом раю, Запоет на ели Сирин: Баю-баюшки-баю. От звезды до малой рыбки Всё возжаждет ярых крыл, И на скрип вселенской зыбки Выйдут деды из могил. Станет радуга лампадой, Море — складнем золотым, Горн потухнувшего ада — Полем ораным мирским. По тому ли хлебоборью Мы, как изморозь весной, Канем в Спасово поморье Пестрядинною волной. 1916 |
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
Аз же глаголю вам…
Вопрос Вл.Соловьева о будущем России снимается Н. Клюевым в “маленькой” поэме (термин Есенина) “Поддонный псалом”. Ответ строится в духе теории “синтеза” самого Вл. Соловьева: будущее России разворачивается перед читателем как сакральная “экология”, реализовавшая гностические идеи философского учения Н. Ф. Федорова [1] и радельную практику сектантских “кораблей”.
“Поддонный псалом” впервые был напечатан в 1917 г., в “Ежемесячном журнале”, под названием “Новый псалом”. В конце 1918 г. поэт включил поэму с измененным названием в состав сборника “Медный Кит”, в котором “Поддонный псалом” вместе с поэмой, давшей название сборнику [2], составили “пророческую” дилогию. Но уже в следующем году, когда в Петрограде вышел в свет двухтомник Клюева “Песнослов”, поэт отказался от циклического объединения поэм и опубликовал только “Поддонный псалом”. При жизни поэта поэма больше не будет перепечатываться, хотя именно в этом произведении, наряду с “Избяными песнями”, окончательно закрепится и философски обоснуется модель “избяного космоса” Клюева.
Подобное содержание поэмы определило и ее название. Первоначальное обозначение “новый” на самом деле не соответствовало информационному контексту: скорее, надо бы было сказать “старый”, потому что слово “новый” в революционные годы неизменно соотносилось с содержанием переустройства, а для Клюева была важна идея не столько переустройства (а значит, — гибели чего-либо), сколько идея возвращения (или возрождения) к первично-незыблемому. Отсюда и замена слова “новый” на “поддонный”. По В. Далю, поддон — “все, что ставится или кладется подо дно” чего-либо [3]. Второе слово в названии поэмы осталось неизменным: псалом, как разъясняет “Полный церковно-славянский словарь”, — есть “песнь, песнопение <…>; в Библии и в церковном употреблении псалмами называются только те священные песни ветхозаветной церкви, которые собраны в одну священную книгу, известную в составе священного кодекса под именем псалтири” [4]. По выражению Василия Великого, псалом “есть врачество для ран человеческой души, — он уцеломудривает человеческий помысл, он — тишина души, он — орудие от ночных страхов и убежище от наваждений демонских, о — примиряет враждующих, он — украшение молодых и утешение старцев” [5].
Псалтирь стала любимым чтением русских людей с XII века. Как справедливо отмечал В. В. Сиповский в книге (которую, возможно, хорошо знал и Клюев) “История русской словесности”, “в псалмах царя Давида прежде всего видели религиозную сторону, но, несомненно, красота формы, музыка стиля, глубокий лиризм, переходящий от возвышенного пафоса до стонов и воплей униженной и оскорбленной души, должны были неприметно входить в сердце читателя и им овладевать” [6]. Пафос псалма, переходящий в “стоны и вопли”, сродни русской фольклорно-песенной культуре, в которой соседствуют “то разгулье удалое, то сердечная тоска” (Пушкин). Неслучайно поэтому Клюев вводит в свою поэму и упоминание о народной песне, так как считал
Что песню мужика: “Во зеленых лузях”
Создать понудил звук, и тайнозренья страх.[7] Но в целом, кроме этого упоминания, в тексте поэмы больше нет фольклорных параллелей (хотя поэт имел хороший творческий опыт в этом направлении, достаточно вспомнить хотя бы его “Песни из Заонежья”. Фольклорных ориентаций в “Поддонном псалме” нет по той причине, что текст его ориентирован на поэтику Псалтири, даже в плане авторского уподобления псалмопевцу:
Что напишу и что реку, о Господи!
Как лист осиновый все писания,
Все книги и начертания:
Нет слова неприточного,
По звуку неложного, непорочного;
Тяжелы душе писанья видимые,
И железо живет в буквах библий! Начало “Поддонного псалма” вариативно ставит тему поиска истины (Божественного смысла бытия); сомнения, охватившие автора, напоминают стенания царя Давида:
Господи! пред Тобою все желания мои,
………………………………………….
А я, как глухой не слышу,
Уже в самом начале “Поддонного псалма” речь идет о поисках “неприточного, неложного и непорочного” слова, т. е. слова первоначального, “поддонного” [8], такого, которым начинается Евангелие от Иоанна: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь и жизнь была свет человеков” (Ин 1; 1-4). По Клюеву, все последующие толкования Божественного Слова являются ложными (отсюда — “тяжелы душе писанья видимые”), а значит, и предательскими (“как лист осиновый все писания”, ибо, как известно, осина — иудино дерево). Прозрение, или возвращение к истине, возможно только индивидуально, когда человек победит в себе Зверя:
О, душа моя — чудище поддонное,
Стоглавое, многохвостое, тысячепудовое,
Прозри и виждь: свет брезжит!
Клюевское сравнение души человека с “чудищем” соотносится с разными контекстами:
1) со знаменитым эпиграфом “Путешествия из Петербурга в Москву” А. Н. Радищева — “Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй” [9],
2) с псалмами Давида:
Душа моя среди львов;
Сюжет поэмы Клюева пронизан оппозициями, из них магистральные: слово “неложное” — слово лживое; “родимой речи таинство” — “писанья видимые”; “животные хлебы” — механистичное; сиюминутное — “миллионы веков”; смерть первая — смерть вторая; но, в целом, все оппозиции восходят к оппозиции Добра и Зла, причем эта оппозиция прослеживается как в личной жизни человека, так и в истории его дома (страны).
В обращении к душе человека важен призыв: “прозри и виждь”. Что именно должна увидеть “прозревшая” душа? Клюев утверждает: “Свет брезжит!” Как известно по Первой Книге Моисеевой “Бытие”, свет связан с первым днем творения: “И сказал Бог! да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы” (Быт 1; 3). Свет, исходящий от Бога, — есть категория Добра. С тьмой (ночью) древние мифологии соотносили категорию Зла, как это мы и видим по апокрифу “Сказание, како сотвори Бог Адама”: увидя первочеловека “древом исколота”, “отгна Господь диавола, и исчезе диавол, прогнан аки тма светом” [10].
Во второй день творения Бог создал “твердь небесную” (Быт 1; 6-8), в третий — сушу и растительность (Быт 1; 9-13). Эти реалии — свет, небо, земля — являются важнейшими категориями Космоса Клюева. Именно с ними связано, по определению Е. И. Марковой, “божественное кольцо” клюевского мироздания, соединившее три космических круга жизни человека [11].
Онтологическая модель клюевского Космоса строится на сопоставлении с “безименными мирами”, канувшими в вечность и не постигшими сути миропорядка. По Клюеву, эти древние законы дошли до нас лишь в зашифрованном виде в словесных обозначениях реалий. В свое время А. Н. Афанасьев различал два периода в развитии языка: период развития форм и период их упадка и расчленения. Первый период “задолго предшествует так называемой исторической жизни народа, и единственным памятником от этой глубочайшей старины остается слово (выделено А. Н. Афанасьевым. — Э.М.), запечатлевающее в своих первозданных выражениях весь внутренний мир человека” [12]. Клюев в своих лингвистических экзегезах идет дальше Афанасьева: он ищет смысл не только в словах, но и в буквах:
Аз Бог Ведаю Глагол Добра —
Пять знаков чище серебра;
За ними вслед: Есть Жизнь Земли —
Три буквы — с златом корабли…
Исследовательница древнеславянской азбуки Л. В. Савельева пишет, что “более чем за одиннадцать веков пользования азбукой исходный смысл большинства буквенных имен сильно поблек или затемнился”. “Однако, — продолжает исследовательница, — нельзя не заметить, что в ключевых словах азбуки — наименованиях предметного характера — легко узнаются привычные, традиционные символы христианской культуры, представляющие “вечные истины”: добро, покой, слово…” [13]. Именно эти изначальные символы христианской культуры и “воскрешает” Клюев. Трудно сказать, знал ли поэт азбучную молитву Первоучителя славян, но его трактовка близка “благовествованию” Кирилла:
Я грамоту осознаю. Говори: Добро существует!
Живи совершенно, Земля! Но как?
Люди, размышляйте! У нас потустороннее прибежище.
Скажи слово истинное. Наученье избирательно:
Херувим, — отрешением печали, — или червь [14].
Первой заметила близость буквенной расшифровки Клюева азбучной молитве Кирилла петрозаводская исследовательница Е. И. Маркова. В книге “Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства” она пишет: “Поменяв название “буки” на “бог”, поэт выводит формулу бытия: Я — Бог ведаю глагол (слово) добра. Глагол добра есть жизнь” [15]. Не отвергая наблюдения Е. И. Марковой, все же надо заметить, что источником для подобного утверждения Клюева скорее всего была не столько азбучная молитва Кирилла (тем более, что не ясно: знал он ее или нет), сколько философский тезис Н. Ф. Федорова (чьи работы он хорошо знал [16]): “Добро есть жизнь”. В статье “Что такое добро?” (1898) Н. Ф. Федоров разворачивает этот тезис, утверждая, что “добро есть сохранение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь” [17]. Именно это утверждение русского философа и станет основным в идейном содержании “Поддонного псалма”. В поэме Клюев воссоздаст идеальную модель perpetuum mobile того пространственного ареала, где этот закон действует. Таким идеальным миром для поэта, несомненно, является его крестьянская Россия, псалмопевцем которой он себя и осознает.
Главная функция поэта, по мысли Клюева, должна реализовываться по ветхозаветной модели поучений Иофора, обращенных к Моисею: “Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать” (Исх 18; 19-20). Свое избранничество Клюев подтверждает образной сакральной параллелью: “О, ясли рождества моего…” (159) — “И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли…” (Лк 2; 7). Затем поэт выстраивает синонимическую цепочку жизненных “яслей”, фиксирующую этапы постижения “красоты простой / И слова воздушного” (160), это —
Теплая зыбка младенчества,
Ясная келья отрочества,
Дуб, юность мою осеняющий,
Дом крепкий, пространный и убранный…
Именно крестьянский дом и является, по Клюеву, “училищем красоты простой”, позволяющим постичь в микрокосме вечные законы бытия. Образная цепочка — ясли, зыбка, келья, дуб, дом — завершается развернутым символом “буреприимной России”, метонимической частью которой является и сам поэт. Пространственным знаком, соединяющим микромир поэта и макромир крестьянской России, в поэме Клюева становится иконографическое изображение начальной буквы славянской азбуки (Азъ), только не в кирилличном, а в глаголичном обозначении —, которое ассоциативно соотносится со знаковым начертанием человека, дерева, креста, земли и пространственных координат частей света. В целом же, облик “Руси буреприимной” традиционно соотносится с женским символом, но в вариативном исполнении:
Вижу тебя не женой, одетой в солнце,
Не схимницей, возлюбившей гроб и шорохи
часов безмолвия…
В данном случае отрицательное сравнение Руси с “женой, одетой солнцем”, связано с двумя контекстами. С одной стороны, — библейским, ибо выражение “жена, одетая солнцем” есть прямая цитата из Откровения Иоанна: “И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце…” (Откр 12; 1), с другой стороны — с идеей Вечной Женственности. В характеристике Руси Клюев не приемлет небесную сакрализацию, а по примеру хлыстов ориентируется на земное содержание [18], представляя Родину
…бабой-хозяйкой, домовитой и яснозубой,
С бедрами, как суслон овсяный,
С льняным ароматом от одежды…
Называя Русь “бабой-хозяйкой”, Клюев сразу же определяет ее этно-социо-возрастной статут. По В. Далю, баба — это “замужняя женщина низших сословий, <…> после первых лет, когда она была молодкою” [19]. В крестьянских семьях женщина оценивалась не но внешней красоте, а по физическому здоровью (у Клюева — “баба-хозяйка” — “яснозубая”). Вот почему другой женский облик — “схимницы, возлюбившей гроб” — тоже не сопоставим с обликом Руси, “бабы-хозяйки”.
Коль скоро Русь-“баба” тесно связана с домом (она — “домовита”), то поэт вслед за “портретным” изображением ее дает характеристику деревенской постройки:
Твоя изба рудожелта,
Крепко срублена, смольностенна…
В описании “бабы-хозяйки” и “избы” Клюев применяет объединяющие их природные уподобления: у “хозяйки” — бедра, “как суслон овсяный”, а “изба” — “рудожелта”, т. е. теплокровная [20], ибо “руда” — древнее обозначение крови. “Баба-хозяйка” — эпицентр клюевского космоса. Утвердив его, поэт в последующем повествовании рассматривает горизонтальные отношения “центра” с “периферией”, начиная с описания сакрального элемента — деревенской печи, от которой веет “дух сёмги и мёда”. Затем изображается “балагур-кот” “на лежанке / И с парчёвою сказкой за пряжей”, далее — двор, который “светл и скотинушкой тучен” [21]. Поэт перечисляет основных животных крестьянского хозяйства: коров, овец, коней. Однако перечисления помощников людей даются в плане символического обозначения качеств крестьянской России — ее достатка, добропорядочности, христианского поведения. Поэтому, с одной стороны, поэт говорит, что у “коров сытно-мерная жвачка, / Липки, сахарно-белы удои” (160), а с другой, отмечает, что в коровьих глазах сквозит “человеческий разум”. Получается, что не только человек постиг экологическую взаимосвязь мироздания, но и животные воспринимают биологические ритмы, которые обозначаются в поэме не только указанием на “сытномерную жвачку” коров, но и указанием того, что у них “шерсть в черед с роговицей линяет”. В последующем описании овец и коней видны христианские аллюзии:
Тишиною вспоенные овцы
Шелковистее ветра лесного;
Сыты кони овсяной молитвой
И подкованы веры железом…
“Поддонный псалом”
Конь в славянской культуре “одно из наиболее мифологизированных священных животных. Конь — атрибут высших языческих богов (и христианских святых)…” [22], поэтому оксюмороны (“овсяная молитва”, “подкованы веры железом”) не представляются странными в контексте “Поддонного псалма”.
Описание крестьянского двора в поэме дается одним предложением, в котором характеристики коров, овец, коней отделены друг от друга точкой с запятой. Вслед за перечислением домашних животных Клюев переключает внимание читателей на вертикальную ось:
Ель Покоя жилье осеняет…
“Ель Покоя” предстает у Клюева как знак Мирового Древа, которое одновременно является и Древом Жизни, содержащим в славянской мифологии семантику древа животного, райского древа [23]. У Клюева в ветвях “Ели Покоя” гнездится Сирин, он
Учит тайнам глубинным [24] хозяйку, —
Как взмесить нежных красок опару;
Дрожжи звуков всевышних не сквасить,
Чтобы выпечь животные хлебы,
Пищу жизни, вселенское брашно…
Клюевский знак Мирового Древа связан с природной флорой Русского Севера, но не только. Ель — символ полисемантический, аллюзивно сопряженный с различными явлениями жизни человека. Для клюевского контекста немаловажно то, что “по грамматическому роду своих названий в славянских языках ель — по преимуществу дерево женское” [25]. Клюев, видящий символику во всем, в том числе и в графике, мог увидеть параллель силуэтов дерева (ели) и женщины, совместить их защитные функции [26]. Сирин, гнездящийся в ветвях “Ели Покоя”, тоже оправдан культурными традициями. Т. А. Агапкина пишет, что “среди <…> сюжетов, связывающих ель и церковь как сакральные фольклорные центры, — многочисленны русские предания о явлении на елях чудотворных икон…” [27]. У Клюева на “Ели Покоя” не чудотворная икона, а сама райская птица. Сирин часто изображался в рисованном лубке, начало которому положили старообрядцы и производство которого, как пишет Е. И. Иткина, “было сосредоточено по большей части на севере России — в Олонецкой, Вологодской губерниях…” [28]. Клюев мог видеть подобные лубки, и не только с изображением Сирина, но и посвященные сакральным явлениям староверия, например, лубок “Родословие Соловецкого монастыря”. Данный лубок является как бы матрицей модели клюевского Космоса: гигантское древо произрастает из древлеправославного храма, являющегося центром замкнутого монастырского пространства. Двери в монастырской стене расположены на одной оси с храмом и древом, к закрытым дверям ведет ступенчатая дорога [29]. Клюев модифицировал это изображение, вместо лиственного дерева ввел хвойное (как знак вечности), в ветвях которого поселился Сирин. С этим образом у поэта связано и определение Древа Жизни как Ели Покоя. Дело в том, что в фольклорных представлениях Сирин — птицедева несравненной красоты, обладающая чарующим голосом, “кто послушает ее голос, забывает обо всем на свете и умирает, причем нет сил, чтобы заставить его не слушать голос Сирина, и смерть для него в этот миг — истинное блаженство!” [30]. Связано это с тем, что “райское пение Сирина служит образцом божественного слова, пленяющего человека” [31]. Но Сирин не любит шума и крика, райская птицедева свыклась с тишиной и покоем. “Покой” — важная философская категория клюевского мировоззрения. В 1935 г., находясь в ссылке в Томске, Клюев напишет письмо Надежде Федоровне Христофоровой-Садомовой с наставлением: “Будьте в покое, и раскаленные стрелы сатаны возвратятся туда, откуда они прилетели. Ибо ведь “Христос есть мир <...> наш” (Ефес 2, 15). Никогда не выходите из этого покоя, если вы хотите возрастать в очищении” [32] ([33]).
В “Поддонном псалме” Сирин учит хозяйку “тайнам глубинным”. О каких “тайнах глубинных” идет речь? Помочь разобраться может следующий текст поэмы:
Побывал я под чудною елью
И отведал животного хлеба,
Видел горницу с полкой божничной,
Где лежат два ключа золотые:
Первый ключ от Могущества Двери,
А другой от Ворот Воскрешенья…
“Животный хлеб”, насытивший поэта, — это Евхаристический знак; вкушение “животного хлеба” означает приближение к Божественной Истине, которая есть смысл жизни и конечная цель всего сущего. Именно в крестьянской избе, по Клюеву, и содержится онтологическая разгадка. Два ключа, лежащие на божничной полке, связаны и идеями двух смертей: смертью первой и смертью второй, с исчезновением человека и с его духовным возрождением. Для человека страшна не первая смерть, ибо это является особенностью его земного пребывания. “Смертию умрете” (Быт 2; 17) предостерег Бог Адама и Еву, но они пренебрегли предостережением Бога, отведали запретного плода и сделались смертными. Клюев так описывает смерть первую:
От земли, словно искра из горна,
Как с болот цвет тресты пуховейной,
Возлетает душевное тело,
Чтоб низринуться в черные воды —
В те моря без теченья и ряби;
Бьется тело воздушное в черни,
Словно в ивовой верше лососка;
По борьбе же и смертном биеньи
От души лоскутами спадает.
Следуя богословским традициям, Клюев различает три ипостаси человека: тело — душу — дух. “Полный церковно-славянский словарь” определяет душу как “начало жизни чувственной, общее человеку с бессловесными животными” [34]. Высшая ипостась человека определяется духом. Клюев, изображая трансформацию человека после смерти первой, противопоставляет дух и телу, и душе:
Дух же — светлую рыбью чешуйку,
Паутинку луча золотого —
Держит вар безмаячного моря:
Под пятой невесомой не гнется
И блуждает он, сушей болея…
Подобная трактовка не расходится с канонической, тот же “Полный церковно-славянский словарь” говорит о духе, как о “высшей способности в человеке”, связанной “непосредственно с Духом Божиим” [35]. Однако не только тело подвержено смерти, но и душа, и дух человека. И это уже есть смерть вторая и окончательная [36]. В «Откровении Иоанна Богослова» об этом говорится так: “Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти…” (Откр. 20; 6), “И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая” (Откр. 20; 14). Об этом же писал своим последователям Аввакум: “…Убоимся вторыя смерти, еже есть вечная муки!” [37]. В “Поддонном псалме” Клюева искания духа, приведшие к лжеистине, заканчиваются смертью второй:
Но едва материк долгожданный,
Как слеза за ресницей, забрезжит,
Дух становится сохлым скелетом,
Хрупче мела, трухлявее трута,
С серым коршуном-страхом в глазницах,
Смерть вторую нежданно вкушая.
Как преодолеть “смерть вторую” — об этом и идет речь в лингвистических рассуждениях Клюева: поэт выделяет девять букв славянской азбуки, давая им и их числовому выделению символическое обозначение. Число 9 — божественное число, и не случайно после выведения всемирного закона Добра (“Глагол добра есть жизнь”) Клюев пишет:
И напоследки знак ита —
Змея без жала и хвоста…
Открытие Клюевым мирового закона Добра сродни признанию царя Давида: “Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтоб я не сошел в могилу” (Пс 30 (29); 4), т. е. спас от “второй смерти”. А преодоление “второй смерти” приводит к вселенской гармонии. Е. И. Маркова пишет по этому поводу: “У глагола добра много противников, и все же оно одерживает победу и заставляет бывшего врага служить себе. Не случайно в конце алфавита — “змя безъ жала и хвоста” [38].
И здесь мы подходим к одной утопической идее Клюева, связанной с политическими событиями в стране. Революция 1917-го года осмысляется поэтом как возрожденческий этап русской истории:
По Морю морей плывут корабли с золотом:
Они причалят к пристани того, кто братом
зовет Сущего,
Кто, претерпев телом своим страдание,
Всё телесное спасет от гибели
И явится Спасителем мира.
Поэт мыслит себя передаточным звеном в эзотерической родовой взаимосвязи. Этим объясняется содержание “странной”, на первый взгляд, строфы:
Приложитесь ко мне, братья [39],
К язвам рук моих и ног:
Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог!
“Приложитесь ко мне, братья” — явная метафорическая параллель со словами Христа: “Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф 11; 28). В клюевском тексте это обращение надо трактовать в хлыстовском понимании поэтом революционных событий в стране: Клюев воспринимал “кровавые жертвы революции как знак сораспятия России Христу” [40]. Отсюда и мессианское содержание последующих строф:
Он родился — цветик алый,
Долгочаемый младень:
Серый камень, сук опалый
Залазурились, как день.
Снова голубь Иорданский
Над землею воспарил:
В зыбке липовой крестьянской
Сын спасенья опочил.
Здесь надо обратить внимание на то, что Клюев не говорит о рождении “сына спасения”, а употребляет глагол “опочил” [41], однокоренной со словом покой, важной лексемой в характеристике “Руси буреприимной”.
Завершается поэма Клюева призывом готовиться к “пиру мужицкому”:
Бельте, девушки, холстины,
Печь топите для ковриг:
Легче отблеска лучины,
К нам слетит Архистратиг.
Пир мужицкий свят и мирен
В хлебном Спасовом раю,
Запоет на ели Сирин:
Баю-баюшки баю.
Сирин, некогда учивший “тайнам глубинным” хозяйку-Русь, теперь, в новых исторических обстоятельствах, поет колыбельную песню, как знак достигнутой гармонии, когда
От звезды до малой рыбки
Всё возжаждет ярых крыл,
И на скрип вселенской зыбки
Выйдут деды из могил.
“Человек как существо двоемирное жаждет всеединства и цельности, полноты существования…”, — пишет В. А. Марков [42]. Поиски Клюевым гармонического всеединства закономерно привели его к философии “общего дела” Н. Ф. Федорова [43] и приятию им федоровского искусства “действительности”: “Вопрос об искусстве, — утверждал Н. Ф. Федоров, — “чем оно должно быть” — будет вопросом о братском объединении для обращения слепой силы природы в управляемую разумом всех воскрешенных поколений, т. е. всеобщее воскрешение, будучи полным восстановлением родства, дают и искусству надлежащее направление, укажет ему цель” [44].
“Поддонный псалом” Клюева является художественной реализацией этой идеи любимого им философа, верящего в восстановление “золотого века”. Вслед Н. Ф. Федорову Клюев живописует будущее так:
Станет радуга лампадой,
Море — складнем золотым,
Горн потухнувшего ада —
Полем ораным мирским.
“Радуга” и “море” в финальном контексте “Поддонного псалма” обращены к содержанию Божественного завета, установленного Богом после потопа: “И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле” (Быт 9; 15-16). Е. Н. Трубецкой трактует видение радуги как знак прекращения “всеобщего губительного течения смерти” и осуществления “единой божественной жизни в многообразии ее форм и о приобщении ее движения к недвижимому вечному покою” [45]. Для Клюева таким “недвижимым вечным покоем” всегда был крестьянский дом, к которому, как полагал поэт, и вынесет Россию революционный “потоп”:
По тому ли хлебоборью
Мы, как изморозь весной,
Канем в Спасово поморье
Пестрядинною волной.
Последняя строфа “Поддонного псалма” варьирует стихи из Псалтири: “Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться. / Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим” (Пс 23 (22); 1-2).
“Поддонный псалом” конструирует не только особый “образ мира” (в традициях философской концепции Н. Ф. Федорова), но и передает “образ” автора, чьи метафоры-иносказания являются “средством самовыражения личности и мирообразующим фактором” [46]. Н. Д. Арутюнова в книге “Типы языковых значений” отмечает, что “реальный мир один и един. Идеальный мир вариативен. Он распадается на множество возможных миров” [47]. Один из таких “возможных миров” и показал Клюев в “Поддонном псалме”. Свой утопический “возможный мир” он выстраивал в традициях культурного синкретизма, который, как верно подметила И. П. Сепсякова, придает поэзии Клюева “межвременный характер” [48].
Примечания
[14] Там же. — С. 22.
[15] Маркова Е. И. Творчество. — С. 174.
[16] Хорошее знание Клюевым философской концепции Н. Ф. Федорова запечатлело следующее замечание поэта Борису Филиппову: “…Мы, мужики, вперед глядим. Вот, у Федорова — читал ты его, ась? — “город есть совокупность небратских состояний”. А что ужасней страшной силы небратства, нелюбви?” (Клюев Н. Собр. Соч. В 2 т. — Мюнхен, 1969. — Т. 1. — С. 581).
[17] Федоров Н. Ф. Сочинения. М, 1982. — С. 608.
[18] Аналогичную трансформацию сакрализации небесного в земное видим мы в поступках героя романа Д. Мережковского “14 декабря”. Князь Голицын в Алексеевском равелине, после свидания с женой, “стал на колени,
[19] Даль В. Толковый словарь. — Т. 1. — С. 32.
[20] “Жизнь есть дом, — писал в 1911 г. В. В. Розанов, — а дом должен быть тепел, удобен и кругл” (Розанов В. В. Уединенное. — М., 1990. — С. 440). Возможно, Клюев был знаком с подобными мыслями Розанова, о чем свидетельствует “Протокол обыска” 1934 г.: “Взято для доставления в ОГПУ <…> книга В. В. Розанова “Люди лунного света” (Куняев Станислав, Куняев Сергей. Растерзанные тени. Избранные страницы из “дел” 20-30-х годов. — М., 1994. — С. 204-205).
[21] Рассматривая отношение крестьян Поонежья к труду, современный исследователь отмечает, что “Традиция осветила крестьянский труд, придала ему статус обряда религиозного действия, в котором могли прослеживаться архетипические ассоциативные связи: <…> храм и дом (хоромины) напоминали ковчег спасения, где “каждой твари по паре”…” (Матюнин В. Н. Духовные аспекты отношения к труду крестьян Поонежья (ХIХ-ХХ вв.) // Народная культура Русского Севера. Живая традиция. — Архангельск, 1998. — С. 33-34).
[22] Славянская мифология. Энциклопедический словарь. — М., 1995. — С. 228.
[23] Петрухин В. Я. Древо жизни. Библейский образ и славянский фольклор // Живая старина. — 1997. — № 1. — С. 8.
[24] Возможно, здесь наблюдается параллель с ветхозаветным определением “тайны глубинной” как “тайны Господней”. См.: Дан 2; 26–28.
[25] Агапкина Т. А. Ель // Живая старина. — 1997 — № 1. — С. 5.
[26] “Еловые ветки широко использовали для защиты строений и культурного пространства от непогоды” (Агапкина Т. А. Ель. — С. 5).
[27] Там же. — С. 5.
28] Иткина Е. И. Русский рисованный лубок конца XVIII — начала XX века. Из собрания Государственного Исторического музея. — М., 1991. — С. 7.
[29] Там же. — С. 161.
[30] Грушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. — Нижний Новгород, 1995. — С. 284.
[31] Персонажи славянской мифологии /Рис. словарь / Сост. А. А. Кононенко, С. А. Кононенко. — Киев, 1993. — С. 175.
[32] Клюев Н. Письма к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой / Публ. А. И. Михайлова // Север. — Петрозаводск, 1994. — № 9. — С. 131.
[33] Клюевская цитата из «Послания к ефесянам апостола Павла» не точна, 15-й стих 2-й главы следующий: “Упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир…”.
[34] Полный церковно-славянский словарь. — С. 159.
[35] Там же. — С. 158.
Э. Б. Мекш,
Даугавпилсский педагогический университет, Латвия
Опубл.: Мекш Э. Б. Аз Бог Ведаю Глагол Добра (“Избяной космос” как будущность России в “Поддонном псалме” Н. Клюева) // Славянские Чтения. I / Даугавпилсский центр русской культуры (Дом Каллистратова); Даугавпилсский педагогический университет: Кафедра русской литературы и культуры. — Даугавпилс-Резекне: Изд-во Латгальского культурного центра, 2000. — С. 171–185.
Клюевослов