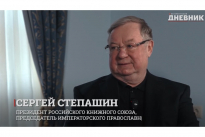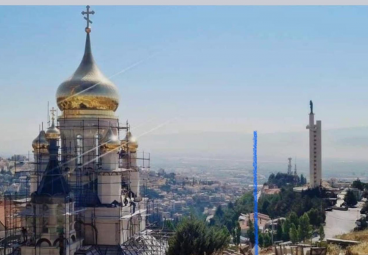Почётный член ИППО, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский: «Отойти на два метра иногда нужно даже от Рембрандта»

Правильную дистанцию определяет культура
Первый итог ещё не закончившейся, но явно отодвинувшей нас друг от друга пандемии коронавируса – увеличившаяся социальная и психологическая дистанция. Ситуация требовала от нас здравого, рационального поведения и понимания, что расстояние важнее эмоциональной близости.
Михаил Пиотровский: Мы всё время – на эмоциональном уровне – объясняли, что музей не должен принимать людей сверх меры, потому что он просто лопнет от бесконечного их количества… А теперь это понятно объективно. В культуре, как и в жизни человека, важны границы, за которые нельзя переходить. Так что после этого опыта – ближе чем на 1,5 метра не подходить – нас, возможно, ждёт немного другой мир – разделённость, зарегулированность, больший расчёт вместо душевности. И период приспособления к более дистанцированному общению будет не прост. Но, может быть, тогда человек станет более ответственным. Ведь когда ты понимаешь, что ты сам по себе и тебе не то чтобы никто не поможет, но ты не можешь рассчитывать, что все тут же прибегут… Мы же знаем из жизни, что полицейский сейчас не прибегает по свистку, как когда-то милиционер. Многим грустно. Многие считают, что это не путь в сторону цивилизованности.
Но чувства же преодолевают дистанцию. И культура умеет жить с дистанцией.
Михаил Пиотровский: Культура спокойно может жить с дистанцией. И столь же спокойно её преодолевать. И, кстати, технические средства, о которых мы привыкли думать, что они губят нам жизнь и вымывают из нас всё человеческое, тут как раз позволяют культуре преодолевать дистанцию. Нам, конечно, нужно живое общение, но не слишком частое и тесное, чтобы ничего не обесценивалось. Если в Эрмитаже каждый день идти и смотреть Рембрандта, то кому-то это не приедается, но, в общем-то, многим может и приесться. И Рембрандт труднее начнёт восприниматься. Так что с дистанцией мы проходим какой-то важный эксперимент. Может быть, и хороший. Дальше всё будет понятнее, но уже сейчас можно размышлять о человеческих результатах происшедшего. И уже ясно, что будет больше не то чтобы порядка, но некого отдаления, которое, возможно, позволит нам больше уважать друг друга.
Кстати, великая картина ведь даёт человеку необходимую дистанцию от какой-то внутренней нервотрёпки, клубка спутанных чувств и мыслей.
Михаил Пиотровский: Да, даёт. Культура вообще определяет правильную дистанцию.
И, похоже, мы попадаем в какое-то новое время – с новыми ориентирами. Мир после пандемии разделяется. Сегодня многим кажется, что спокойнее жить отдельно. Важнее и нужнее становится «своё». Национальные интересы и право оказываются важнее международных. И иногда, действительно, важнее самому оборониться.
Намечается явный антиглобализм.
Михаил Пиотровский: Да, совершенно чёткий. Но если экономическую и политическую сферу или устройство здравоохранения лучше «заизолировать», то культуру всё-таки нет. Культурные мосты никак нельзя сжечь. Потому что это лучшее лекарство от вражды.
Люди не должны потерять друг друга, а континенты отдрейфовать на такое расстояние, чтобы уж потом не соединиться. Или соединиться для морского боя. Не знаю, как это сделать. Но знаю, что это надо делать.
Дистанция, нажитая нами опытным путём, должна получить культурное определение. Если мы сумеем это сделать, от многого вылечимся...
Конфликт с Геей
Чем мы всё-таки болели, если смотреть на пандемию не только с медицинской точки зрения?
Михаил Пиотровский: Недавно во время одной интересной дискуссии о пандемии в Саудовской Аравии меня заинтересовало выступление одной американской дамы, считающей, что пандемия рождена слишком высокой близостью человека и животного. Мы слишком приближаемся к животным, причём в грубой форме – охотимся, убиваем, режем, едим. Ну и, наконец, дошли до такой ступени, на которой всегда существующая возможность перескока чего-то – с животного на человека – многократно увеличилась. И все эти коронавирусы – до Koвида-19 были ведь и птичий, и свиной гриппы – как раз такой перескок, прыжок.
А в Европейском университете, где открываем новое направление «Геофилософия», мы недавно как раз специально обсуждали ситуации наших разборок с природой.
По большому счёту пандемия – результат противостояния природы нам. Мы её хищнически истребляем, относимся к ней потребительски. Тут уже не просто «не ждать милостей от природы», а постоянно что-то из неё извлекать. Природа для нас – основание для услуги. Мы рубим деревья, качаем полезные ископаемые, плугом губим почву и совершенно забываем, что природа – это мощный организм, с которым надо выстраивать взаимное общение. Не выстроив его, мы получим в ответ и глобальное потепление, и пандемию. Это всё нарушенное равновесие.
Мы живём в истории, которая тесно связана с темой природы. Люди тоже часть природы, и тоже достойны уважения. Всё, что нам даёт природа, – это дар, подарок, а не то, что мы захотели и взяли. И нам нужно понимать, что для сосуществования с нею и друг с другом нам нужно что-то дать. Жизнь вместе, если мы хотим, чтобы всё кончилось благополучно, – это всё равно какой-то обмен.
Точно так же, как уничтожаем леса и, добывая полезные ископаемые, нарушаем экологические системы, мы нарушаем и правильное взаимодействие наций. Хотя кто его знает, каким оно должно быть. Но мы его точно нарушаем.
Мы с вами говорили о дистанции между людьми, ну так с природой мы её тоже не выдерживаем. В нашем теперешнем мире всё оказалось тесным – человек и животное, неправильные отношения с природой, с культурой. И общества более-менее относительно равные, как европейские, оказываются слишком тесными. Большая скученность, закрепившиеся привычки беспрерывного общения. А всякие заразы, не только биологические, но и социальные (например, преступность), на самом деле распространяются – в скученной жизни.
Атланты держат небо. А мы поддерживаем друг друга. Помня, что культура – лучшее лекарство от вражды.
И так же, как происходит физиологический перескок от слишком близкого и активного соприкосновения человека с животными, так сегодня происходят и перескоки социально-психологические. Разве ближневосточная истерия, связанная с исламом и всем тем, чем мы привыкли возмущаться (ИГИЛ, «Братья-мусульмане» – эти организации запрещены в России. – Прим. ред.), не перескакивает в Европу и Америку.
И эта мировая война с памятниками на расовой почве тоже, между прочим, перескок. Нас всё это, кажется, меньше волновало, когда взрывали статуи Будды в Бамиане или вешали директора музея в Пальмире не за что другое, а за хранение культурных древностей. Но когда виноватыми оказываются Линкольн, Вашингтон, Кольбер, Вольтер, испанские священники и даже Сервантес, это уже сильнее задевает…
О войне с памятниками
Война со старыми историческими символами приобрела какой-то фантастический размах.
Михаил Пиотровский: Мне во взгляде на эту войну ближе всего отлично сформулированная мысль Эммануэля Макрона, недавно произнесённая им как раз в связи с нападением на памятники: «Республика не сотрёт из своей истории ни одного следа и ни одного имени».
Факт важнее символики?
Михаил Пиотровский: Да, факт важнее. Потому что история состоит из фактов. Имена людей, памятники им – это канва истории. А интерпретации, оценки (и людей, и памятников) – «всё остальное».
Почему дело доходит до нападения на Вольтера?
Михаил Пиотровский: Ну якобы он получал деньги от компании, возившей рабов, и корабль, занятый этими перевозками, был назван его именем. Бедный Вольтер, конечно, это всё не имеет никакого отношения к сути его присутствия в истории. Разве что его ухмылка всегда виновата. Недаром стоявшую в Эрмитаже скульптуру Гудона Екатерина отправила от себя куда подальше, а Николай I потом вообще выставил из дворца в публичную библиотеку.
Отодвигание памятников – это далёкое предвестие будущей войны с ними. Во Франции по столь же надуманным причинам неугодным оказывается Кольбер.
Но попытки поменять приоритеты и переписать историю были всегда.
Михаил Пиотровский: Да, но сейчас мы сталкиваемся с попытками переписать историю из-за оскорбления чувств.
Но история не принадлежит только недовольным ею нашим современникам. Она принадлежит всем. И живым, и умершим, и довольным, и недовольным. Вот поэтому надо защищать памятники. И Колумбу. И испанским священникам. И Сервантесу, вообще непонятно почему облитому грязью.
Перекручивание, переистолкование истории может закончиться плохо. Мы же помним это по своему родному отечественному опыту. Как в Москве уничтожали памятники Александру II… А вот в Петербурге был особый опыт. Памятник Николаю I на Исаакиевской площади, уж что только не вспомнив его герою (и «победу» над декабристами, и чумной бунт, и старую шутку «дурак догоняет умного», имея в виду стоящего впереди Петра), пальцем никто не тронул, хотя шли разговоры про «уничтожить». И памятник Александру III, пропутешествовав с площади в разные дворы Русского музея, остался. Это очень петербургская история.
Памятники нужно сохранять обязательно. Даже если некоторые из них уже не могут стоять на главных площадях, как, например, Дзержинский, он должен стоять в Музеоне (кстати, прекрасное московское изобретение, являющее памятник в музейной функции). Музею, спасая и сохраняя память, часто приходится вынимать её из контекста.
Мы, кстати, предназначили для скульптур и городских сооружений, которые (иногда обоснованно) начинают не нравиться людям, фондохранилище Эрмитажа в Старой Деревне. И уже были готовы принять туда Башню мира с Сенной площади, всем надоевшую и мешавшую.
История и истерия
Афроамериканцы восстают против запечатлённых в памятниках символов, кажущихся им теперь неверными и расово унизительными. Но борьба с колониализмом и колониалистами была последней ценностно объединяющей весь мир историей.
Михаил Пиотровский: Антиколониальный пафос в своё время был всем нам очень полезен. Но колоний-то уже давно нет.
И смешно судить за них бедного Вольтера, Де Голля или этих столетия стоявших американских южных генералов? Покушение на них – пандемический перескок истерии. В котором всё начинает перетолковываться через истерию.
И сказывается знаменитый (категория Ницше) ресентимент. Озлобленность и раздражение, вызванные разочарованием, неудачей. Вот этим живут борцы с памятниками. Именно на ресентименте основан теперешний постколониальный синдром, когда нас всех заставляют бесконечно каяться и извиняться за колониальное прошлое. Возникает даже ненависть к ориентализму, к востоковедению, к живописи о Востоке. К покаянию надо прибавлять непременный восторг, если, например, директором музея Ке Бранли в Париже назначают уроженца одной из колоний. Для русских музеев работа в них уроженцев «бывших колоний» обычное дело, а для французов вот становится событием, и, по-моему, в этом тоже есть какая-то истерическая неестественность.
Окончание колониализма – это и результат борьбы с ним, и результат желания колонистов уйти.
Михаил Пиотровский: Есть известное выражение, принадлежащее знаменитому министру нефти Саудовской Аравии Ахмеду Заки Ямани: каменный век кончился не потому, что кончились камни.
Примерно также и колониализм. Он кончился, потому что и люди в колониях его не хотели, и сами колонизаторы.
Колониальные захваты, имеющие свои конкретные цели, в какой-то момент этих целей достигли или потеряли их. Колонии уже становились ненужными метрополиям. И сырьё, вывозимое из них, теряло значение, важнее была нефть, находившаяся вовсе не в колониях. И вся колониальная история, как когда-то европейское рабовладение, утратила свою экономическую правильность. И цивилизационная миссия колонизаторов исчерпалась.
Такое ощущение, что в современном возмущении старым памятником Линкольну «Почему негр стоит на коленях перед белым президентом?» срабатывает не столько развернувшееся чувство расового достоинства, сколько комплекс неполноценности. Не личный даже – социально-психологический.
Михаил Пиотровский: Если вспомнить первых борцов, например, с французским колониализмом – поэта Леопольда Сенгора, философа Франца Фанона, то это были люди высочайшей образованности и высшей культуры! Какой уж тут комплекс неполноценности! Но потом, правда, были люди немножко пожиже… А сейчас, да, чувствуется комплекс неполноценности.
Америка – обустроенная страна, с порядком, законом, чёткими социальными механизмами, с показательными проходами для чернокожих граждан в джаз и бизнес. Но в этом вдруг вырвавшемся наружу возмущении памятниками чувствуется какая-то недовтянутость афроамериканцев в американскую культуру?
Михаил Пиотровский: Ну мы ещё со времён марксизма знаем про важность социальных механизмов. Хорошие социальные механизмы помогают и культурной ассимиляции. Но когда дело доходит до широких масс, их втягивания в культуру, то тут комплекс неполноценности почти неизбежен. Потому что осваивать любую культуру непросто. А когда широкая масса, приезжая, например, хоть в Америку, хоть в Россию, не очень хочет учить язык, то тут и зарождается истерия комплекса неполноценности. Присоединение к большой общности всегда вызывает какой-то комплекс. Тут сказываются и особенности национальной идентичности, и принадлежность к разным социальным слоям.
Ну и не будем забывать, что людям всё время хочется чего-то большего. Однако рождающаяся из этого неудовлётворенность гасится, если ты полностью включён в культуру и она твоя часть. Видимо, в Америке включённость афроамериканцев всё-таки невелика.
И хоть были Луи Армстронг и Майкл Джексон, «квоты» на рабочие места для негров, но и наклонная плоскость негритянской жизни в сторону вовлечения в торговлю наркотиками тоже была и есть. Афроамериканцы – люди со сломанной историей, рабство в XIX веке – исторический вывих и позор (как и крепостное право, например, несколько менее бесчеловечное, но тоже стыдное).
Михаил Пиотровский: Но сейчас с когда-то угнетёнными афроамериканцами, похоже, происходит то, что так неполиткорректно обрисовал Арнольд Тойнби, заметивший склонность вчерашних угнетённых также угнетать других. Это не всегда так, но бывает…
Поэтому могу только повторить вслед за Макроном – не вычеркнуть ни одного следа и ни одного имени. Говорить о героях минувших дней можно и так и эдак, но поднимать руку на память – нельзя.
Эхо Гражданской войны
Михаил Пиотровский: Но вообще всё, что сейчас происходит в США и в других странах, – это, конечно, отголоски, эхо Гражданской войны. Во Франции, например, оно звучит в разделении на петеновскую и непетеновскую Францию. У нас в России иногда становится сильнее эха последней войны с Германией (недаром у нас сейчас разговоры про Польшу, бывшую до Гражданской войны частью России, звучат острее, чем про Германию).
Думаю, мы должны почаще смотреть на великую картину Сальвадора Дали «Предчувствие Гражданской войны». И задумываться над нею. Чтобы её, не дай бог, в какой-то форме не возродить.
Но у нас всё-таки нет показательной войны с памятниками?
Михаил Пиотровский: А три скандала с мемориальными досками? Маннергейму – торжественно открытой в Петербурге в присутствии военного караула, а потом столько раз разбиваемой и обливаемой грязью, что пришлось её убирать в Исторический музей в Царском Селе?
Мы в Эрмитаже перед этим делали большую выставку о Маннергейме, не столько как о финском президенте, сколько как о гвардейском офицере, русском разведчике и человеке, не поднявшем руку на Петербург, – и ею возмущались, но цивилизованно.
А разбитая хрустальная и очень красивая мемориальная доска Сахарову в Гусь-Хрустальном?
А скандал вокруг восстановленной нами после ремонта в Главном штабе памятной доски на месте убийства Урицкого. Мы были обязаны восстановить её по закону истории, да и стилистка доски говорила, что это лишь памятник эпохи. Мы всё уравновесили: рядом с портретом Урицкого поместили большой портрет Кеннигисера, рассказав о нём как о друге Есенина, поэте, юнкере и одном из последних защитников Зимнего дворца. Всё началось с лёгких протестов с одиночными плакатами, а кончилось бурными и в среде русской эмиграции, причём даже наших друзей. С таким афронтом «Да как вы смеете?! У этого человека руки в крови!». Но мы же восстанавливаем ту часть нашей истории, в которой руки в крови были у очень многих.
Я думаю, что и это бациллы, вирусы гражданской войны.
В такие моменты ясно понимаешь, что о примирении пока не может быть и речи. И, может быть, рано примиряться. Во Франции, например, не примиряются. Но и нагруженность таких сюжетов бациллами гражданской войны не замечать нельзя.
Нам в Эрмитаже достаётся особенно, потому что мы императорская резиденция и хранители имперской памяти. Ой, что было, когда мы в Instagram в день столетия ареста и казни разместили портрет – фотографию несостоявшегося императора, Великого князя Михаила Александровича. Дикая полемика развернулась, и нас, в общем, обеспокоила: эрмитажный Instagram всё-таки не «Эхо Москвы», сюда ходят люди без ненависти.
Однако это всё должна и может гасить культура. Я немного смеялся над разговорами, что искусство – это терапия. А в последние месяцы во время работы онлайн мы, общаясь с миллионами (в реальности к нам в год приходят 5 миллионов посетителей, а онлайн пришло 45), ещё раз убедились, что культура и искусство дают людям некое лекарство. По крайней мере успокаивающее точно.
И, может быть, в этом тоже наша миссия, над которой стоит думать. Как над противоядием всему тому, что рождается в гражданской войне.
Ключевой вопрос
В чём же лекарство от комплекса неполноценности?
Михаил Пиотровский: Не впадать в комплекс неполноценности людям и народам помогает сохранение своей национальной культуры – при самых разных уровнях ассимиляции. В российской империи это великолепно получалось на уровне высших социальных слоёв. Столько грузин, татар, бывших мусульман в элите не было ни в одной другой стране. Все наши Багратионы, Кутайсовы, Кутузовы, Юсуповы, татарские фамилии у половины дворян. Англичане, кстати, тоже немного принимали людей из колоний в высшие слои, но не к себе в Англию. А у нас даже эмир Бухарский был высшей российской знатью. Потом политика слишком сильной русификации это всё немного испортила. Но у России это всё-таки получалось лучше всех. Я это знаю как человек с польской, русской и армянской кровью.
Папа у Вас в семье был представителем культуры метрополии?
Михаил Пиотровский: Да, и прадеды были имперские люди, офицеры, католики из Польши, перешедшие в православие. Мама – из армянской интеллигенции. Для меня папа и мама были людьми единой культуры, но это всё-таки потребовало от них некоего такого освоения. В России такого много. В России даже евреи ассимилируются больше, хотя они трудно ассимилируются.
И несут невероятную культурную закваску.
Михаил Пиотровский: Но это как раз результат умения сочетать ассимиляцию с самостоятельностью.

Михаил Пиотровский и журналист «РГ» Елена Яковлева, автор книги о Михаиле Борисовиче Пиотровском в серии «Жизнь замечательных людей»
Источник: rg.ru