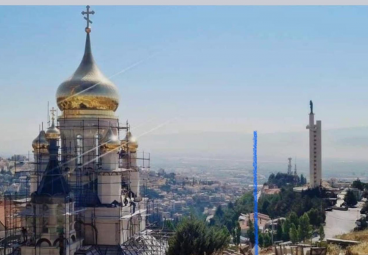Автор и художественная предикация (Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»). И.П. Карпов
Как существует внутри человека эмоция, мысль, побуждение, воображение, воля – на этот вопрос в какой-то степени могут ответить разве что физиологи и психологи. В литературно-художественном произведении все это внутреннее содержание человека предстает в объективированной форме, т. е. в выражении не непосредственном (эмоция – в мимике; мысль, побуждение, воля – в действии), а опосредованном – через слово и образ.
В произведениях Достоевского объективируется определенное эмоционально-психическое состояние человека, прошедшего через нищету, жизненные и творческие взлеты и падения, подверженного нервным расстройствам и эпилепсии, человека страстного по своей натуре, испытавшего чувство расставания с жизнью, десять лет проведшего на каторге и в ссылке, многие годы отдавшего страсти игры в карты. В то же время это был человек огромной психической и умственной энергии, понимающий все грехи своей жизни, осуждающий их, но часто не имеющий воли их преодолеть.
Достоевский – «православный писатель» (И. А. Ильин), «проповедник возрождения» (митр. Антоний)… – все это так, но внутри этого – того, что часто было на поверхности (в рассуждениях персонажей, в публицистике писателя, его письмах и дневниках), – таились сложнейшие переживания человека, изнутри своей противоречивости, изнутри своего нервно-психического комплекса увидевшего человека и сострадающего ему, что запечатлено прежде всего в его художественных произведениях. Все это в своеобразных, сложных, опосредованных формах и проявлялось в творчестве, приписывалось создаваемой картине жизни и персонажам.
«Имя – предикат, имя – предикат, имя – предикат, и так далее, до бесконечности, – это и есть человеческое мышление»; <это и есть> «самый бурный и управляемый реактор на Земле» (Артсег 1993: 99–100, 277).
Автор высказывания (суждения, литературно-художественного произведения) сначала указывает на человека (на предмет, явление), затем дает ему имя (Раскольников, Мармеладов…), далее – приписывает этому имени различные душевные состояния, действия, слова.
В лингвистике предикация – соединение компонентов предложения, выражающих отношение предмета и признака, основа высказывания.
Художественная предикация – одно из основных понятий аналитической филологии, позволяющее рассматривать любое текстуальное явление как производное от деятеля (автора), как форму объективации экзистенциальных сил автора.
Художественная предикация – все то, что приписывается (предикатируется) автором художественному образу – будь то образ персонажа, образ предмета или явления.
Как бы ни был характерно очерчен персонаж, каким бы он ни был «объективным», в основе его создания — предикативные способности автора. Следовательно, в глубине мышления, слова и мировидения персонажа будут все те же авторские способности приписать своему созданию различные свойства, обстоятельства, материальную оболочку и определенную духовную сущность. И все это автор может взять только из себя, из своего мировидения, мирочувствования и миропонимания.
Повествование Достоевского изобилует вставными сегментами – рассказами и «исповеданиями» персонажей, письмами, которые, взятые сами по себе, могут рассматриваться – в определенном смысле – как самостоятельные произведения. Следовательно, они могут быть приняты в качестве образца прозы писателя, как материал для нашего мыслительного конструирования «образа автора».
Сначала посмотрим, какую информацию об авторе мы можем получить из первого предложения романа (начало произведения – сильная позиция), далее – разберем художественные условия, в которых существуют смыслы анализируемого эпизода (его структуру и контексты), от этого перейдем к интерпретациям того, что автор предикатирует своему персонажу и из каких внутренних свойств (экзистенций) исходят авторские предикации. В пределах этой собственно литературоведческой проблематики мы поймем и характерную для Достоевского форму воплощения православных традиций.
§ 1. Художественно-образная структура
Вспомним первый абзац «Преступления и наказания»:
«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую он снимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешительности, отправился к К-ну мосту» (Достоевский 1972–1990. 6: 5)1, и постараемся в этом описательном высказывании, обыденном по своему содержанию, вычленить основные смыслы, определить некоторые параметры авторского художественного мышления.
Грамматическую основу первого предложения романа составляет имя – «человек» (с уточнением – «один молодой») и глагольные предикаты – «вышел» и «отправился».
Писатель дает имя своему воображаемому персонажу, как-то словесно его маркирует. Каждый писатель, несмотря на общие, необходимые для всех, правила именологии, делает это по-своему.
Со временем читателю сообщается полное личное имя персонажа – Родион Романович Раскольников. У Достоевского имена персонажей часто говорящие. Раскольников – прямое указание на раскол, на расколотость. Раскольников внутренне расколот – между доброй по своей природе натурой и бредовой идеей.
Имя и отчество Мармеладова – Семен Захарович. Это имя часто встречается в произведениях Достоевского: Семен Иванович («Господин Прохарчин»), Иван Семенович («Двойник»), Семен Иванович Шипуленко («Скверный анекдот»), Семен Семенович Рогожин («Идиот») (Имена персонажей Достоевского – см.: Достоевский 1997: 166–168).
Уточнение «молодой» тоже имеет для нас значение: многие главные персонажи Достоевского люди молодые, только вступающие в жизнь, или люди среднего возраста, но не живущие спокойной размеренной жизнью. Все они одержимы какой-нибудь страстью.
В первом предложении романа есть только косвенное указание на внешний вид персонажа – через указание на характер его движения: Раскольников пошел медленно, в нерешительности. Но сам характер движения в авторском видении важен и примечателен. Описание того, как человек идет, всегда у Достоевского является важным моментом в описании душевного и умственного состояния человека.
«Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека» (6: 21).
В первый свой выход из каморки к старухе-процентщице Раскольников идет, «впав как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье» (6: 6).
«Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычке к монологу…» (6: 6).
Таких и более развернутых описаний в романе много, обобщает их Свидригайлов, отмечая своеобразие манеры ходить по городу петербуржцев: углубление в себя, отстранение от происходящего вокруг (влияние «мрачных, резких и странных влияний на душу человека»), намекая на то, что манера ходить выдает неблагополучное внутреннее состояния человека (в том числе Раскольникова).
«…Я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека <…>. Вы выходите из дому – еще держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни пред собою ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда вы высвобождаете руки и декламируете, наконец, останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо-с» (6: 357).
Внешний вид человека (собственно портрет, одежда) всегда являются у Достоевского указанием на социально-бытовое положение персонажа и его эмоционально-психическое состояние.
«Вышел из своей каморки, которую он снимал от жильцов в С – м переулке» – это указание на имущественное состояние персонажа. Раскольников снимает «каморку» у хозяйки, которая в свою очередь снимает комнаты у владельца дома.
Так, в комнатах, снимаемых «от жильцов», живет и семья Мармеладовых, и Соня. Это жилищные условия самых бедных людей, беднее которых, вероятно, только те, кто живет в ночлежках.
Поэтому и Соня удивлена (или сочувственно огорчена), посетив Раскольникова: «И не знала, что вы тоже от жильцов живете…» (6: 187).
Уточнение (обстоятельство времени) «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер» имеет значение не только указания на время происходящих событий, но используется, как обычно у Достоевского, для характеристики социально-бытового положения персонажа и атмосферы, приписываемой персонажу и изображаемой картине жизни.
В начале романа – «чрезвычайно жаркое время», далее: на улице жара, духота, в распивочной – было душно, «темный и грязный угол», «липкий стол», «дурно пахло»; в комнате Мармеладовых – душно, с лестницы несет вонью. Раскольникову после чтения письма матери «стало душно и тесно в этой желтой каморке» и так далее.
Природно-предметная среда (Петербург Достоевского) – картина мрачная: грязные закоулки, лестницы, комнаты-гробы. Это вполне очевидно в текстах и описано в исследованиях.
Пространственно-временное положение «молодого человека» определяется местом действия (каморка – улица – мост, далее – квартира старухи-процентщицы) и временем (июль, вечер).
Это пространство личной жизни человека, пространство большого города.
В начале романа автор указывает на то, что предметом повествования выбран молодой человек, который «вышел» и «отправился», т. е. человек, находящийся в движении, идущий от пункта А (своей каморки) к пункту Б (К – ну мосту), человек, движущийся в городском пространстве, от одного помещения к другому.
Вспомним, далее в романе следует: описание обстоятельств жизни персонажа, соотносимых с пространством пункта А (каморки), описание улиц, чувств и мыслей персонажа во время движения, – наконец, его встреча со старухой-процентщицей Аленой Ивановной (пункт Б) – и возвращение на улицу, описание впечатления персонажа от посещения старухи-процентщицы – встреча с Мармеладовым в распивочной – путь Раскольникова и Мармеладова к квартире Мармеладова – пребывание у Мармеладовых – впечатление от посещения Мармеладовых.
Так заканчивает описание первого вечера Раскольникова (1 и 2 главы романа).
Содержание следующего дня (главы 3, 4 и 5): каморка, чтение письма матери – движение «к Васильевскому острову через В-й проспект», вновь автор дает информацию, соотносимую с событиями пункта А, только выше сам повествователь сообщал читателю обстоятельства жизни Раскольникова, а теперь излагает размышления Раскольникова по поводу письма матери, – встреча, но не в помещении, а на К-м бульваре (эпизод встречи с пьяной девушкой) – снова движение (к Разумихину) – снова «встреча» (сон около Петровского острова) – впечатление от сна – встреча с Лизаветой (сестрой старухи Алены Ивановны) – путь домой («До его квартиры оставалось только несколько шагов»), осмысление значения случайности встречи с Лизаветой – и вновь Раскольников у себя в каморке.
С теми или иными вариациями, но весь роман строится на движении персонажа из своего дома (квартиры, каморки) – в пункт встречи с кем-либо, причем движение по улице начинается с осмысления того события, которое связано со своим домом, также после любой встречи описываются впечатления (размышления) персонажа от нее. В пункт встречи (например, к Разумихину) Раскольников может и не дойти, но тогда во время его движения случаются важные для него события прямо на улице (сон и подслушанный разговор Лизаветы с мещанином).
Событие – эмоциональное состояние – размышление – три основных составляющих повествования Достоевского.
Достоевский всех своих персонажей наделяет необычайными эмоционально-психическими состояниями, чему мы также впоследствии должны будем уделить внимание, а сейчас только отметим, что в выражении «медленно, как бы в нерешительности, отправился» содержится указание на внутреннее состояние персонажа. Нерешительности соответствует чувство беспокойства, может быть, тревоги. В таком состоянии человек постоянно обращается мыслями к осмыслению себя, т. е. «нерешительность» есть и указание на рациональную сферу человека.
«В нерешительности» – это значит, что Раскольников что-то не решил для себя, что-то не додумал, в чем-то сомневается.
Более того, вспомним: что составляет содержание движения персонажа? Не только и не столько собственно события, поступки персонажей (убийство старухи-процентщицы, предстоящая сестре Дуне жизнь с Лужиным), сколько выяснение отношений между персонажами, проверка их жизненной философии. Поэтому каждое событие в жизни Раскольникова обдумывается им. Это может быть маленькое замечание о не случайности встречи с Мармеладовым, но это может быть и многостраничное рассуждение Раскольникова о письме матери, рассуждение, в котором в косвенной форме автор знакомит читателя с основными обстоятельствами жизни Раскольникова, его матери и сестры Дуни.
Хрестоматийное суждение: все герои Достоевского – идеологи, но это и значит, что им приписана способность рассуждать, рефлексировать.
За указанием «в нерешительности» мы видим и эмоционально-психическое состояние персонажа, и состояние его мышления (и указание на внешний вид).
«Пред нами одно из ключевых слов романа. Оно воплощает глубокие и существенные стороны его содержания, его целостного смысла. “Преступление и наказание” – роман неразрешимых ситуаций и роковых, чреватых трагическими последствиями решений» (Кожинов 2002: 195).
«Нанимал от жильцов в С-м переулке», «отправился к К-ну мосту» – «зашифровка» места действия для читателей-современников, живущих в Петербурге, имела чисто условный характер. Они сразу поняли, что указывается на Столярный переулок и Кокушкин мост. (См., например, роман А. И. Эртеля «Гарденины», в котором героиня после прочтения романа направляется в описанное в романе место) (Эртель 1985: 45–46). (Разбор этого сопоставления – см.: Кожинов 2002).
Для читателей, не знающих столицы, эти указания имели обобщающее значение.
И вот именно соединение конкретного факта и его обобщения необходимо нам сейчас отметить – как одну из существеннейших свойств авторского художественного мышления, объективируемую писателем во всех произведениях и приписываемую основным персонажам.
При всей топографической точности в перемещениях Раскольникова, при всех конкретных указаниях на то, сколько метров или сколько шагов было от одного помещения к другому в «путешествиях» Раскольникова («ровно семьсот тридцать» шагов от ворот дома Раскольникова до дома старухи-процентщицы), – это пространство движущегося персонажа постоянно как бы «размывается».
Раскольников (как сказано в начале романа) идет к мосту (на самом деле цель движения – Алена Ивановна, старуха-процентщица); на второй день он идет «к Васильевскому острову». И часто оказывается не там, куда направляется: вместо посещения Разумихина – встреча на улице пьяной девушки и «страшный сон» около Петровского острова. Порой Раскольников идет «куда глаза глядят».
«Зашифрованные» слова в начале романа имеют обобщающее значение в контексте всего романа как произведения идеологического.
Раскольников убивает Алену Ивановну и ее сестру Лизавету, чтобы, в сущности, проверить не только свои способности быть сильной личностью, но чтобы понять, что есть человек вообще. Мармеладов не просто рассказывает историю своей семьи, но встреча с ним является одним из аргументов в размышлении автора и персонажа (Раскольникова) – опять же о человеке вообще (аргументом – «за» и «против» человека).
Таким образом, читателю не просто что-то сообщается, текст является информационным не в только в своих непосредственных смыслах, но и в силу своей художественной структуры.
Объективации религиозных представлений мы никак не увидим в первом предложении романа, но поставить такой вопрос нам необходимо – для полноты тех параметров, которые мы определяем для нашего дальнейшего анализа.
Читая роман «Преступление и наказание», даже без цели понять «религиозные искания» автора, только на лексическом уровне, мы видим, насколько вся жизнь персонажей проникнута идеей Бога, насколько имя Бога постоянно на устах персонажей.
Это может быть бытовое упоминание – Бог его знает, Бог с ним, но имя Бога произносится и в самые решающие моменты жизни персонажей, когда человек понимает, что в жизни часто есть только одна надежда – на Бога. И тогда: Бог простит, как Бог приведет, Бог не допустит, сохрани Бог, Бога надо благодарить…
Конечно, Достоевский, создавая роман, не думал: «Дай-ка я в начале романа определю основные формы и содержание моей способности к предикации». Но на интуитивном уровне получилось именно так. Образная картина, коей и является художественное повествование, сглаживает для читателя видение того, из каких свойств автора она исходит. Авторологический подход, неспешный анализ позволяют это обнаружить, учитывая, конечно, те художественные условиях, в которых объективируется автор и в которых он предикатирует себя персонажу.
В жанровом отношении монолог Мармеладова представляет собой рассказ в рассказе. Первый «рассказ» – повествование от третьего лица, ведущееся повествователем, второй – речь Мармеладова.
Кроме собственных смыслов монолог Мармеладова имеет сообщение о том, что происходило до настоящего времени повествования, т. е. мотивирует дальнейшее повествование. Так же, например, письмо матери Раскольникова объясняет конфликт Дуни и Свидригайлова.
В начале эпизода персонаж (Мармеладов) помещается автором в ситуацию представления, точнее, в одну из тематических разновидностей этой ситуации – ситуацию знакомства. Конечно, автор представляет персонаж читателю всем повествованием, но также он может изобразить ситуацию знакомства одного персонажа (Мармеладова) с другим (Раскольниковым).
Рассказ Мармеладова о себе и своей семье составляет главное содержание анализируемого эпизода.
Речь Мармеладова начинается с обращения к Раскольникову, с представления себя и мотивировки высказывания (желание поговорить с образованным человеком; далее эта мотивировка углубляется).
«– А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов — такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?» (6: 12).
Рассказ предполагает слушателя (слушателей). Слушатели, как обычно у Достоевского, делятся на главного, к кому обращается рассказчик, и слушателей-зрителей, которые так или иначе реагируют на рассказ.
Главный слушатель – Раскольников. К нему обращается Мармеладов. Автор прерывает рассказ Мармеладова в наиболее значимых местах указаниями на реакцию слушателей-зрителей и Раскольникова.
Раскольников ощущает неслучайность встречи с Мармеладовым, во время прямого обращения к нему настораживается. Он то внимательно слушает Мармеладова, то досадует, «что зашел сюда», но в конце концов, сочувствуя и понимая горе семьи Мармеладова, провожает его домой.
Мармеладов и Раскольников не беседуют друг с другом, Раскольников молчит, но все повествование приближено к его восприятию, весь рассказ Мармеладова становится частью судьбы и внутреннего мира Раскольникова (в этом и заключается неслучайность их встречи).
Интересно, что в роли слушателя, оценивающего происходящее, выступает и Мармеладов.
«Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал?» (6: 14).
«Лежал я тогда… ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня…» (6: 17).
«…Ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись… обе… обе… да-с… а я… лежал пьяненькой-с» (6: 17).
Таким образом, слушатель в мире Достоевского всегда должен быть, хотя бы в положении «пьяненького».
Содержание речи Мармеладова определяется тремя моментами.
Во-первых, весь рассказ Мармеладова строится, по существу, на опровержении собственного же тезиса: он – последний пьяница, «свинья», «прирожденный скот», но и он будет прощен, т. е. и он имеет какие-то нравственные достоинства – основание для милосердного к нему отношения. Во-вторых, обращение Мармеладова к Раскольникову предполагает от последнего сочувственную реакцию. В-третьих, обращение к слушателям-зрителям предполагает непонимание, осуждение.
Вокруг персонного центра эпизода (Мармеладов) выстраиваются и другие персонажи (слушатели-зрители).
Так же строится персонная система и рассказа Мармеладова: действующее лицо, главный персонаж (непосредственное семейное окружение персонажа-рассказика): Мармеладов, Катерина Ивановна, Соня, дети; далее – лица, связанные с судьбой главных персонажей: господин Лебезятников, хозяйка Амалия Федоровна… и еще далее (фоном) слушатели-зрители.
Все персонажи имеют в повествовании строго определенные функции, поставлены они автором в определенные взаимоотношения. Сверхзадача автора – показать столкновение разных жизненных позиций, разных идеологий, а значит, разных голосов, чем и определяется субъектно-словесная организация повествования.
1.3. Многоголосие
Обратим внимание на то, что многие события в романе даются не в описании, не в картине (жизнь Мармеладова, история Дуни и Свидригайлова), а в пересказе и обсуждении. Так, событие находится в неразрывной связи с его восприятием и оценкой, а последнее в условиях диалогического романа, создателем которого, по М. М. Бахтину, является Достоевский, предполагает многоголосие, которое, с одной стороны, организовывается наличием рассказчика и слушателей, а с другой – диалогизацией речи рассказчика, т. е. включением в речь рассказчика разных идеологических, этических, религиозных точек зрения.
В начале своего обращения к Раскольникову Мармеладов хвастается, что угадывает его социальное положение (студент или бывший студент).
«– Студент, стало быть, или бывший студент! – вскричал чиновник, – так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт! – и в знак похвальбы он приложил палец ко лбу. – Были студентом или происходили ученую часть!» (6: 13).
Это угадывание, т. е. знание личных обстоятельств жизни незнакомого человека, очень важно в образном мышлении Достоевского, в котором человек осмыслен как человек говорящий, размышляющий о себе и мире.
В романах Достоевского всегда «всем все известно».
Формы общения и способы получения информации о другом человеке могут быть самые разные, в том числе подслушивание и чтение личных писем.
Раскольников невольно подслушивает разговор Лизаветы (сестры старухи-процентщицы, Алены Ивановны) и мещанина на улице, Марфа Петровна (жена Свидригайлова) подслушивает объяснение Свидригайлова и Дуни, Свидригайлов – разговор Раскольникова и Сони.
Письмо Дуни Свидригайлову читает не только Свидригайлов, но и его жена, которая это письмо к тому же читает всему городу. Это письмо в пересказе матери становится известным и Раскольникову.
Все персонажи пересказывают реакцию друг друга на какое-либо, в данный момент важное, обстоятельство. Все интригуют. Раскольников во время встречи с Свидригайловым в трактире прямо говорит: «Надоело интриговать».
Все это – реальное воплощение многоголосия, но в этом заключается и особенность авторского видения человека в его межличностных отношениях.
Вспомним хрестоматийное – из М. М. Бахтина:
«Множество самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основою особенностью романов Достоевского. Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертывается в его произведениях, но имен¬но множественность равноправных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единстве некоторого события. Главные герои Достоевского действительно в самом творческом замысле художника не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного, непосредственно значащего слова» (Бахтин 1979: 6–7).
1.4. Эпизодические персонажи
В этом многоголосии особую роль играют слушатели-зри¬тели. Они часто не названы, они – эпизодические персонажи, но на них всегда указывается, потому что они – представители окружающего мира, того мира, отношение к которому является крайне важным для автора. Ответить на вопрос: кто есть человек (прекрасное творение Божие или…) – только одна часть проблемы, вторая: что есть мир, созданный Богом? И в обсуждении этой второй части проблемы большое значение имеет изображение внешнего по отношению к главному персонажу мира, будь то мир предметно-бытовой, будь то мир людских отношений.
Речь Мармеладова ориентирована на слушателей-зрителей, которые являются обязательными участниками высказываний персонажей.
В распивочной присутствуют несколько людей: пьяницы («один хмельной» и «товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой»), двое мальчишек, хихикающих во время рассказа Мармеладова, и хозяин заведения.
«Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок» (6: 11–12).
Сниженная характеристика внешности хозяина далее подтверждается его презрительным отношением к Мармеладову. В таком отношении к Мармеладову едины и все другие слушатели-зрители.
«– А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе-хе-хе!
– Неужели дала? – крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку» (6:20).
«– Да чего тебя жалеть-то? – крикнул хозяин, очутившийся опять подле них» (6: 20).
«Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежний смех и ругательства:
– Рассудил!
– Заврался!
– Чиновник!
И проч. и проч.» (6: 21).
Слушатели-зрители выражают крайнюю степень отстранения человека от человека, безжалостность, равнодушие. Они – постоянная составляющая часть образной системы романов Достоевского и – внутри изображаемой картины – носители жестокого несправедливого мира, в котором живут основные персонажи.
Так же построены многие сцены «Преступления и наказания» и в других произведениях писателя.
Ближайший по тексту романа пример: Раскольников привел Мармеладова домой, Катерина Ивановна бьет Мармеладова:
«…Внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату…» (6: 24).
Главное в персонаже для Достоевского – его идеологическое содержание (персонаж-идеолог) и его эмоциональное переживание, следовательно, его идеология должна быть высказана и сопоставима с другими идеологиями.
Мышление суммой человеческих судеб, суммой человеческих взаимоотношений, человеческих правд – на пересечении этого и рождается полифонизм и многоголосие Достоевского.
Важно не только то, что все происходит на глазах людей, вплоть до покаяния Раскольникова на площади, но и то, что «всем все известно», т. е. автор мыслит своих персонажей как одну большую общность, внутренне разобщенную, но единую, называемую, если процитировать Мармеладова, «Се человек!». И существо это, человек, в своей массе оказывается крайне неприглядным.
Мысль автора и мысль персонажей все время развивается в контексте христианского вероучения. Фраза Мармеладова «Всем все известно» ориентирована на евангельское изречение «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Таким образом совесть в ее христианском понимании провозглашается одной из основных человеческих ценностей: не делай другим того, чего не хочешь по отношению к себе.
__________________
Примечание
1 Цит. по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972–1990 с указанием тома и страниц.
2.1. Персонаж и социальная среда
Автор видит человека в его социально-классовой принадлежности и материальном состоянии.
Человек Достоевского – человек общественный, причем человек эпохи вступившего в силу капитализма, такого общества, которое резко разделило людей на бедных и богатых.
Именно критика общественного устройства и защита «бедных», «униженных» и «оскобленных» были отмечены идеологами революционно-демократического направления (В. Г. Белинским, Н. А. Добролюбовым, Н. Г. Чернышевским).
В. Г. Белинский о «Бедных людях»: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: “Ведь это тоже люди, ваши братья!”» (Статья «Петербургский сборник») (Белинский 1948. 3: 72).
Н. А. Добролюбов об «Униженных и оскорбленных»: «В забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда не заглушенные стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запрятанный протест личности против внешнего, насильственного давления и представляет его на наш суд и сочувствие» (Статья «Забитые люди») (Добролюбов 1961–1964. 7: 248).
Здесь человек социально прикреплен, и главная его забота – преодоление нищеты, стремление разбогатеть. Наследство и служба – два основных вида дохода. Служить – значит иметь материальный достаток, место в обществе. В плане сопоставления персонажа и среды главный пафос творчества Достоевского, естественно, может быть понят как борьба с «овеществленным человеком».
«…Главный пафос всего творчества Достоевского, как со стороны его формы, так и со стороны содержания, есть борьба с овеществлением человека, человеческих отношений и всех человеческих ценностей в условиях капитализма. Достоевский, правда, не понимал с полною ясностью глубинных экономических корней овеществления, он, насколько нам известно, нигде не употреблял самого термина «овеществеление», но именно этот термин лучше всего выражает глубинный смысл его борьбы за человека» (Бахтин 1979: 73).
Расколотость общества на бедных и богатых выражается не только в судьбах людей, но и проникает вглубь их взаимоотношений, вглубь их видения друг друга.
Мармеладов, каким он предстает перед Раскольниковым (и читателем), находится в самом жалком виде: он пять дней пьет, ночует на сенных барках, он в лохмотьях – и все-таки и в этом виде он воспринимается повествователем и персонажем (Раскольниковым) как «отставной чиновник». Даже лицо у Мармеладова «было выбрито, по-чиновничьи».
«Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье» (6: 12).
И представляется он Раскольникову чиновником, тут же интересуясь, служит ли Раскольников: «…Состою титулярным советником. Мармеладов — такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?» (6: 12).
Социальная дифференциация проникла вглубь сознания каждого человека и определяет его отношение к другим.
«На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить» (6: 12).
И жену свою Мармеладов оценивает опять же с точки зрения происхождения и социального положения: «особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь».
Рассказ Мармеладова, судьба Катерины Ивановны, Сони – обвинение бесчеловечному существующему строю. Картина эта усиливается описанием каморок, трущоб, вонючих лестниц.
Разбогатеть хотят все персонажи Достоевского. И так получается, что обеспеченными оказываются и семья Мармеладовых, и сестра Раскольникова Дуня. И даже бессребреник князь Лев Николаевич Мышкин («Идиот») оказывается обеспечен материально, получив наследство. Но когда такое случается, это автором как бы не принимается в расчет – в том смысле, что не является оправданием жизни, «плюсом» окружающей среде, которая даже в самой изображенной картине жизни оказывается не такой уж беспросветной.
Переживания персонажей Достоевского настолько сильны и так ярко и подробно выписаны, постоянное обращение автора и персонажей к этическим и религиозным категориям (совесть, гордость, подлость, свобода, Бог) – все это несколько затушевывает реальную материально-классовую подоплеку конфликтов, но именно социальное и материальное неравенство находится в основе изображаемой картины человеческих страданий.
За таким отрицанием капиталистического мира естественно бы следовало признание необходимости преобразования существующего строя жизни. С этого начинал Достоевский, в кружке Петрашевского. После ссылки Достоевский меняет свои убеждения, обращаясь к православию. Но во всех изображениях ужасов жизни чувствуется прежняя жажда справедливости, справедливости социальной.
3.1. Отрицательный эмоциональный комплекс
Автор с настойчивостью и постоянством предикатирует своим персонажам отрицательный эмоциональный комплекс, вплоть до указаний на явно болезненное состояние или конкретную болезнь.
Раскольников в начале повествования по отношению ко всему окружающему испытывает чувство «бесконечного отвращения», «неприятное и раздражительное чувство отвращения», преобладающее его внутреннее состояние – тоска, сосредоточенная тоска, мрачное возбуждение. «Он шел по тротуару как пьяный», «голова его кружилась». И так фактически на протяжении всего романа. Он сам и многие другие люди понимают, что он болен.
«Порой овладевала им болезненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже в панический страх. Но он помнил тоже, что бывали минуты, часы и даже, может быть, дни, полные апатии, овладевшей им, как бы в противоположность прежнему страху, – апатии, похожей на болезненно-равнодушное состояние иных умирающих» (курсив здесь и далее во всех цитатах этого параграфа мой. – И. К.) (6: 335).
«Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на “аршине пространства”. В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильней начинало его мучить» (6: 327).
Мармеладов тоже характеризуется примечательно: он беспокоен, во взгляде его «мелькало как будто и безумие».
«Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, – пожалуй, был и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие» (6: 12).
Все главные герои Достоевского – люди не только нравственно или «идейно» страдающие, они наделяются автором неустойчивой психикой: они нервозны, на грани безумия или сходят с ума, убивают или заканчивают жизнь самоубийством. Это явление называется в достоевсковедении гиперболизацией страстей и страданий и определяется как «способ художественного обобщения, в котором художественная образность достигается путем намеренного преувеличения степени переживания героев» (Достоевский 1997: 146).
Раскольников, Свидригайлов, Мармеладов, Соня, Катерина Ивановна – в «Преступлении и наказании», Мышкин и Рогожин – в «Идиоте», Кириллов и Ставрогин – в «Бесах», Версилов и Долгоруков – в «Подростке», Иван и Дмитрий Карамазовы, Смердяков – в «Братьях Карамазовых» – это только концентрированное выражение авторской эмоциональности, кроме того, она разлита в описаниях многих других персонажей, в создании мрачной окружающей социально-бытовой среды, общей нервной напряженности в отношениях между персонажами.
Основные черты эмоционального комплекса, присущие православному человеку, – иные: кротость, смирение, благодарное приятие мира, сердечное сокрушение, умиление.
Русские писатели знали этот эмоциональный комплекс, носителем которого часто являлись персонажи праведного образа жизни, православного умонастроения и мирочувствования: Г. Р. Державин (ода «Бог»), А. С. Пушкин («Отцы пустынники и жены непорочны», многие произведения), М. Ю. Лермонтов («Ветка Палестины»), И. С. Тургенев («Живые мощи»), А. К. Толстой (многие произведения), Н. А. Некрасов («Тишина»), Н. С. Лесков («Соборяне»), А. П. Чехов («Студент»), И. С. Шмелёв («Лето Господне», «Богомолье»).
Приблизился к изображению этой эмоциональной основы религиозного сознания и Достоевский в образах старца Зосимы («Братья Карамазовы») и архиерея Тихона («Бесы»), но не эти образы определяют основной эмоциональный тон повествований Достоевского.
Нервно-психическая неустойчивость настолько проникает во все сферы повествования, что нельзя не видеть в этом объективации авторской эмоциональности, авторских психических комплексов. И парадокс Достоевского заключается в том, что в пределах этой нервно-психической неустойчивости постоянно поднимается религиозная проблематика. Именно персонажи, часто находящиеся в состоянии, по словам автора, «на грани безумия», провозглашают свое приятие или неприятие Бога.
Ключевыми словами (лексемами) в описании нервно-психичес¬кого состояния персонажа являются «болезнь», «тоска», «припадок». Первое слово указывает на ненормальность состояния персонажа или на конкретную болезнь, второе – на основное испытываемое персонажем чувство, третье – на внешнюю форму проявления болезни.
Авторское указание на болезнь персонажа присутствует поч¬ти во всех произведениях Достоевского (о чем писали и пишут многие исследователи, особенно фрейдистско-юнгианского направления) (См.: Классический психоанализ 2002, Фрейд 1994, Фрейд 1995, Адлер 1995).
Однако, что интересно для филолога, болезнь – и порой довольно серьезная – не мешает персонажам активно участвовать в межличностных отношениях, а также испытывать самые разнообразные по силе и содержанию чувства, даже создавать и переживать идеи, теории, концепции мира, человека, Бога.
Значений слова «болезнь» – непосредственных и контекстуальных – в произведениях Достоевского настолько много, что этим словом обозначается огромное количество явлений, прежде всего, конечно, внутренней – умственной и душевной – жизни человека.
Если проследить тему болезни, учитывая частотность лексемы «болезнь», по основным текстам Достоевского, то мы увидим, как сфера болезни расширяется, т. е. расширяется круг явлений внутренней жизни человека, именуемых этим словом или сопоставляемых с прямым значением слова. (Ограничусь некоторыми примерами, достаточными для предварительных выводов, соответствующих выборочному анализируемому материалу.)
В «Бедных людях» болезнь – физиологическое состояние человека.
«…Матушка последнее здоровье свое потеряла на работе: она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я все видела, все чувствовала, все выстрадала; все это было а глазах моих!» (Варвара Алексеевна о своей матери) («Бедные люди») (1: 31).
В «Хозяйке» болезнь уже охватывает всего человека.
«Ордынов не слыхал ничего более; он вышел как полоумный.
Он не мог вынести более; он был как убитый; сознание его цепенело. Он глухо чувствовал, что его душит болезнь, но холодное отчаяние воцарялось в душе его, и только слышал он, что какая-то глухая боль ломит, томит, сосет ему грудь» («Хозяйка») (1: 316).
В «Униженных и оскорбленных» начинается череда больных персонажей: болеет рассказчик («неудавшийся литератор» Иван Петрович), главные героини – Нелли-Елена (эпилепсия, болезнь сердца), Наташа.
«Я взглянул, – Елена, стоявшая как без чувств, вдруг с страшным, неестественным криком ударилась оземь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок падучей болезни» («Униженные и оскорбленные») (3: 260).
Постепенно не только увеличивается количество больных персонажей, но расширяется и семантика слова. «Болезнь» может быть и метафорой нервно-психического состояния персонажа, и указанием на все сферы внутренней и социальной жизни человека.
«Восемь дней он не выходил из дому и не являлся в должность. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зачлись ему на том свете» («Скверный анекдот») (5: 43).
Раскольников тоже целый месяц обдумывает свою идею, дойдя до физического и нервного истощения.
«Собственно о больном он выразился, что находит его в настоящую минуту в весьма удовлетворительном состоянии. По наблюдениям же его, болезнь пациента, кроме дурной материальной обстановки последних месяцев жизни, имеет еще некоторые нравственные причины, “есть, так сказать, продукт многих сложных нравственных и материальных влияний, тревог, опасений, забот, некоторых идей… и прочего”» («Преступление и наказание») (6: 157).
«В ночи со Степаном Трофимовичем приключился столь известный мне и всем друзьям его припадок холерины – обыкновенный исход всех нервных напряжений и нравственных его потрясений» («Бесы») (10: 495).
«Князь был действительно нездоров и сидел дома один с обвязанной мокрым полотенцем головой. Он очень ждал меня; но не голова одна у него болела, а скорее он весь был болен нравственно» («Подросток») (13: 244).
«Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно дыша. Алеша взял подушку и лег на диване не раздеваясь. Засыпая помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятною болезнь Ивана: “Муки гордого решения, глубокая совесть!”» («Братья Карамазовы») (15: 89).
Повторяемость и однотипность данных сопоставлений указывает нам на особую «философию» болезни, такого сведе?ния всех сюжетных линий и особенностей межличностных отношений персонажей к нервно-психическому и умственному состоянию человека, которое становится обязательным элементом художественного мира Достоевского. Без «болезни», оказывается, нельзя обойтись, так же как без давящей на персонаж внешней социально-бытовой среды.
Свидригайлов рассказывает Раскольникову о своих любовных увлечениях. «Чему же тут радоваться? Это болезнь, и опасная», – говорит Раскольников.
Свидригайлов: «– А, вот вы куда! Я согласен, что это болезнь, как и все переходящее через меру…» (6: 362).
Если все, что «через меру», является болезнью, то собственно болезнь как отклонение от соматической и психической нормы отсутствует, тогда болезнь есть не отклонение, а особое состояние, обязательный элемент неординарности человека. В этом случае в качестве формы для выражения авторской эмоциональности становятся идентичными явления вроде бы несопоставимые в других аспектах – два эпилептика: князь Мышкин – и Смердяков.
«Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь» (5: 101), «Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь» («Записки из подполья») (5: 102).
«Старушонка вздор! – думал он горячо и порывисто, — старуха, пожалуй что, и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь…» (6: 211).
«– Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, – как-то яростно даже вскричал Иван. – Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак» (15: 72).
Князь Мышкин – Рогожину: «– Все это ревность, Парфен, все это болезнь, все это ты безмерно преувеличил… – пробормотал князь в чрезвычайном волнении» («Идиот») (8: 180).
Тоска – постоянное состояние персонажей ранних произведений Достоевского.
Тоска как чувство одиночества; тоска, уныние как спутники старости.
«С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются» («Белые ночи») (2: 102).
«Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние» («Белые ночи») (2: 119).
В переписке между Макаром Девушкиным и Варварой Доброселовой («Бедные люди») постоянные указания на чувства тоски, грусти, скуки, ужаса.
«Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, уж день такой! Прощайте. Ваша Варвара Доброселова» (1: 19), «А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука» (1: 27), «Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство» (1: 36), «Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня; воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска сдавила мое сердце…» (1: 37), «Ну, грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!..» (1: 67).
«Цепенея и леденея от ужаса, просыпался герой наш и, цепенея и леденея от ужаса, чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время… Тяжело, мучительно было… Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из груди…» («Двойник») (1: 187).
«Тоска» так же, как и «болезнь», – от произведения к произведению расширяется значение этих слов, как укрупняется и опи¬сание именуемого чувства.
Тоска Ивана Карамазова – не только временное, частое или постоянное состояние персонажа: в описании тоски Ивана автор соединяет только что произошедшие события (отвращение к родительскому дому, встреча с Алешей) с указанием на тревожное будущее персонажа, автор выражает две способности персонажа – чувствовать и тут же обдумывать свое чувство.
«Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая и, главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде и не диво бы, что пришла она в такую минуту, когда он завтра же, порвав вдруг со всем, что его сюда привлекло, готовился вновь повернуть круто в сторону и вступить на новый, совершенно неведомый путь, и опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная на что, многого, слишком многого ожидая от жизни, но ничего не умея сам определить, ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих» (14: 241).
В пределах общего – и как видим почти всеобъемлющего – наименования «болезнь» в произведениях Достоевского конкретное проявление болезни именуется припадком.
Это может быть припадок «какой-то болезненной совестливости» («Скверный анекдот») или «казенный припадок байроновской тоски» («Бесы»), когда слово указывает на нравственную сферу человека или ориентацию на «модное» состояние-поведение. Но в основном слово выражает стихию нервно-психических расстройств огромного количества персонажей Достоевского.
Припадок злости («Белые ночи»), припадки безысходной грусти («Неточка Незванова»), припадок – «магнетический сон» («Село Степанчиково и его обитатели»), опасный нервический припадок, «припадок, вроде обмирания» («Униженные и оскорбленные»), «– Да-с, припадочек у нас был-с! Этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите, – закудахтал с дружественным участием Порфирий Петрович…» («Преступление и наказание»), «У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них все забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает» («Бесы») (10: 115); «Версилов уверял серьезно (и заметно горячо), что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок» (13: 20), «лихорадочный припадок», «припадки, почти истерические» («Подросток»).
Болезнь как чрезмерность чего-либо и припадок сливаются в едином именовании человеческого чувства любви.
«Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками… потому что это бывает. Потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок, как мертвая петля, как болезнь, и – чуть достиг удовлетворения — тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить» («Подросток») (13: 420).
Описания эпилептического припадка, его изображение настолько важны в произведениях Достоевского (особенно в романе «Идиот»), что позволяют говорить об эстетике и поэтике этого явления.
Размышление князя Мышкина о своих эпилептических припадках строится по следующей схеме: 1) описание состояния перед припадком; 2) описание состояния во время припадка; 3) оценка состояния во время припадка; 4) описание состояния после припадка и оценка этого заключительного состояния.
Последнюю оценку мы не выводим в самостоятельный этап рассуждений, потому что она не обсуждается персонажем, на нее только указывается (это вид подмены, мыслительного, тематического и мотивационного сдвига).
Припадок разделяется на две фазы. Первая называется «степень», «мгновения», «моменты». Вторая – «секунда», «мгновение».
В третьей части описания эпилептическое состояние не только оценивается, но и дополняется его содержание. Автор указывает на то, что персонаж выражает свои ощущения в «туманных выражениях», которые, однако, «казались ему самому очень понятными», т. е. автор понимает возможное непонимание «выражений» персонажа читателем.
1. Состояние перед припадком: грусть, душевный мрак, давление, сомнение, волнения, беспокойства.
«Он задумался между прочим о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его» (8: 187–188).
Если такое состояние – обязательный элемент припадка, значит, человек будет притягивать к себе именно такие обстоятельства и переживания, которые вызовут сам припадок. Здесь мы обращаемся к тому, что было сказано в предыдущем параграфе – к нагнетанию изображения мрачной социально-бытовой среды в «Преступлении и наказании».
2. Самочувствие во время припадка (стадия «степени»): воспламеняется мозг, напрягаются все «жизненные силы», «удесятеряется» ощущение жизни и самосознания, высшее спокойствие, ясная, гармоническая радость и надежда…
«Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима» (8: 188).
В состоянии «секунды», которая «была, конечно, невыносима» (вероятно, по нервно-психической напряженности и содержанию) – «проблески высшего самоощущения и самосознания», «высшего бытия». В осмыслении состояние этой стадии определяется как «высшая степень гармонии, красоты, полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни», «беспредельное счастье», особое ощущение времени (отсутствие времени).
«Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и “высшего бытия”, не что иное как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все-таки дошел, наконец, до чрезвычайно парадоксального вывода: “Что же в том, что это болезнь? – решил он наконец. – Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?” Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно “красота и молитва”, что это действительно “высший синтез жизни”, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить» (8: 188).
3. В рассуждениях и оценке припадка испытанное состояние отделяется от состояния опьянения гашишем, опиумом или вином, потому что припадок сопровождался не видениями (видения «унижают рассудок», «искажают душу»), а «только необыкновенным усилением самосознания», непосредственным самоощущением.
«Ведь не видения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания, — если бы надо было выразить это состояние одним словом, — самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать тебе: “Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!”, – то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни» (8: 188).
Вывод князя Мышкина: за эти мгновения можно отдать жизнь, эта секунда «пожалуй, и могла бы стоить всей жизни».
Автор прямо указывает на противоречивость мышления, оценок и выводов персонажа. С одной стороны, испытанное состояние – болезнь, с другой, – пусть это болезнь, но дающая ощущение гармонии.
«В выводе, то есть в его оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка, но действительность ощущения все-таки несколько смущала его. Что же в самом деле делать с действительностью? Ведь это самое бывало же, ведь он сам же успевал сказать себе в ту самую секунду, что эта секунда, по беспредельному счастию, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни» (8: 188–189).
Несмотря на то, что автор указывает на ошибки и противоречивость рассуждений персонажа, последний довод его более убедителен.
«Что же в самом деле делать с действительностью?» – примечательный вопрос, уравнивающий действительность жизни и действительность испытываемого в эпилептической припадке состояния.
4. Доводом против вывода и оценки персонажа может быть указание на состояние после припадка.
«Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: отупение, душевный мрак, идиотизм стояли пред ним ярким последствием этих “высочайших минут”. Серьезно, разумеется, он не стал бы спорить» (8: 188).
Но этот довод: состояние после припадка, – не обсуждается ни автором, ни его персонажем.
С чем мы в данном случае имеем дело: с болезнью? Или с провозглашением особой значимости состояния эпилептического припадка? В последнем случае творчество Достоевского рассматривается психоаналитиками как объективация эпилептического (невротического) состояния. Может быть, это и крайность, заданная З. Фрейдом, однако текстуальный анализ приводит нас к выводу о том, что «болезнь», нервно-психическая неустойчивость, преобладающий отрицательный эмоциональный комплекс – все это является той средой, в которой только и могла быть реализована собственная эмоциональность и нервно-психическое состояние Достоевского. Наполнением этого «каркаса» художественного мира становилось содержание, которое было доступно автору из непосредственного жизненного опыта (жизненные обстоятельства, вещественная обстановка), и содержанием, извлекаемым из авторской идеологии.
3.3. Личностная основа эмоционального комплекса
«Нервный, увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек», – так писала о Достоевском его жена (Достоевская 1987: 182).
Страстная натура Достоевского требовала реализации, воплощения, объективации. В жизни это проявлялось порой самым трагическим образом. Почти девять лет Достоевский был страстным игроком, проигрывая последнее, даже вещи жены. И дело было не только в желании выиграть, разбогатеть, расплатиться с долгами, но и в самом стремлении к тому комплексу ощущений, который пробуждает в человеке процесс игры – нервному возбуждению, лихорадочному напряжению, полному упадку сил (как после эпилептического припадка) и новому возгоранию.
В воспоминаниях жены вполне определенно описываются обстоятельства этой страсти Достоевского и его эмоционально-психическое состояние.
«…У нас было, сравнительно говоря, немного денег и полная невозможность, в случае неудачи, откуда-либо их получить. И вот не прошло недели, как Федор Михайлович проиграл все наличные, и тут начались волнения по поводу того, откуда их достать, чтобы продолжать игру. Пришлось прибегнуть к закладам вещей <…>. Опять шли заклады, но так как драгоценных вещей у нас было немного, то скоро источники эти истощились» (Достоевская 1987: 182–183).
«Сначала мне представлялось странным, как это Федор Михайлович, с таким мужеством перенесший в своей жизни столько разнородных страданий (заключение в крепости, эшафот, ссылку, смерть любимого брата, жены), как он не имеет настолько силы воли, чтобы сдержать себя, остановиться на известной доле проигрыша, не рисковать своим последним талером. Мне казалось это даже некоторым унижением, недостойным его возвышенного характера, и мне было больно и обидно признать эту слабость в моем дорогом муже. Но скоро я поняла, что это не простая “слабость воли”, а всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер бороться не может. С этим надо было примириться, смотреть на увлечение игрой как на болезнь, против которой не имеется средств» (Достоевская 1987: 183–184).
«…Он возвращался с рулетки <…> бледный, изможденный, едва держась на ногах, просил у меня денег (он все деньги отдавал мне), уходил и через полчаса возвращался еще более расстроенный, за деньгами, и это до тех пор, пока не проиграет все, что у нас имеется.
Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Федор Михайлович бывал так удручен, что начинал рыдать, становился предо мною на колени, умолял меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние» (Достоевская 1987: 184).
«Всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер бороться не может», «крайнее отчаяние» (вспомним Мармеладова), т. е. Достоевский понимал всю порочность своей страсти. Это для нас очень важно – понимал и осуждал. Это вошло в его произведения, привело к своеобразной мотивировке поведения персонажей.
В процессе творчества Достоевский мог изнутри себя чувствовать другого человека, даже душевные движения отрицательных своих персонажей. И часто они – носители порока, страсти, зла (Мармеладов, Раскольников, Свидригайлов, Иван Карамазов) – получались ярче, убедительней в своем облике и силе своего мышления, а значит, и соблазнительней для читателя, чем герои положительные (Соня Мармеладова, князь Мышкин, Алеша Карамазов), что отмечали многие исследователи разной идеологической и эстетической ориентации (См. самые «полюсные» примеры: Луначарский 1976; Анастасий 1998).
Образы отрицательных персонажей как бы раздваиваются в читательском восприятии: они и убийцы, и самоубийцы, и развратники, и вроде бы автор показывает не только их преступление, но и наказание – душевное разложение, их душевные муки, и тем не менее Достоевский для каждого из своих злодеев находил какое-нибудь оправдание, какое-либо смягчающее обстоятельство. Мармеладов пьет, потому что «черта моя наступила», Раскольников так страдает и совершает столько благородных поступков, что и за это уже достоин прощения, Свидригайлов-самоубийца перед смертью облагодетельствовал семью Мармеладовых, Иван Карамазов-самоубийца сочиняет «поэму» о Великом инквизиторе, о которой вполне можно сказать, что в ней автор дал «самую большую битву своему собственному сомнению» (А. В. Луначарский).
4.1. Логика обобщения
Автор в художественных произведениях Достоевского предикатирует персонажам (героям-иделогам) не только определенное содержание мышления (в категориях этики и религии), но и определенную логику мышления как движение от факта к обобщению.
Всем героям Достоевского «надобно мысль разрешить», все они стремятся как-то по-своему осмыслить мир: князь Валковский («Униженные и оскорбленные»), Раскольников («Преступление и наказание»), Терентьев («Идиот»), Ставрогин, Кириллов, Шапов («Бесы»), Аркадий Долгоруков («Подросток»), Иван Карамазов («Братья Карамазовы»).
Автор приписывает всем персонажам мышление, которое не только отмечает факт, но и обобщает его, что воплощается в постоянном выражении персонажами своих мыслей в афористической форме, в последовательности рассуждения как факта – афоризма – развертывании афоризма – конкретизации факта.
Мармеладов. Факт: положение человека в нищете и ее крайней степени – бедности. Факт обозначается сначала описанием внешнего вида Мармеладова, затем наблюдением Мармеладова над внешним видом Раскольникова («не в значительном виде»).
Развертывание афоризма: «В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!» (6: 13).
Конкретизация факта: рассказ о том, как «супругу мою избил господин Лебезятников», общее положение семьи.
Свидригайлов – в беседе с Раскольниковым в трактире (тоже своего рода «исповедь» персонажа). Факт: начало взаимоотношений с Авдотьей Романовной (сестрой Раскольникова), Свидригайлов пытается соблазнить девушку Парашу, Авдотья Романовна «требует» оставить «бедную Парашу в покое». Свидригайлов использует начало отношений с Авдотьей Романовной, которую он полюбил, до такой степени «врезался», как он сам говорит, что мог отравить жену. Чтобы обольстить Авдотью Романовну, он делает вид, что согласен с нею, раскаивается, т. е. льстит ей.
Афоризм: «Нет ничего в мире труднее прямодушия, и нет ничего легче лести» (6: 366).
Развертывание афоризма: «Если в прямодушии только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас диссонанс, а за ним — скандал. Если же в лести даже все до последней нотки фальшивое, и тогда она приятна и слушается не без удовольствия; хотя бы и с грубым удовольствием, но все-таки с удовольствием. И как бы ни груба была лесть, в ней непременно, по крайней мере, половина кажется правдою» (6: 366).
Конкретизация факта: Свидригайлов рассказывает, как лесть помогала ему в отношениях с женщинами и как не помогла в отношениях с Авдотьей Романовной.
Порфирий Петрович. Факт: обсуждение преступления Раскольникова и последствий преступления (каторга, переход в «другой разряд людей»…).
Афоризм: «Станьте солнцем, вас все и увидят» (6: 352).
Развертывание афоризма (в данном случае – краткое): «Солнцу прежде всего надо быть солнцем» (6: 352).
Конкретизация факта переносится в обсуждение межличностных отношений (Порфирий Петрович – Раскольников), потому что внутренним смысловым контекстом эпизода является обсуждение преступления Раскольникова, в котором он еще не признался.
Единообразие мышления автора и его героев имеет и ряд внутренних (функциональных) особенностей, к которым можно отнести логику подмены и логику оправдания.
Авторское художественное мышление определяется логикой подмены: фактическая причина обстоятельства подменяется сопутствующим обстоятельству эмоционально-психическим состоянием человека, что предикатируется и персонажу.
Хозяин распивочной спрашивает Мармеладова: почему не служишь, если чиновник?
«– Забавник! – громко проговорил хозяин. – А для ча не работаешь, для ча не служите, коли чиновник?» (6: 14).
Вопрос предполагает ответ: не служу, потому что пью, в очередной раз выгнали со службы. Но Мармеладов отвечает не так, не связывает свое неслужение с непосредственной причиной (пьянством), отвечает вопросом на вопрос: «А разве я не страдаю?» Таким образом он уходит от прямого ответа на вопрос, фактическая причина обстоятельства (не службы) подменяется указанием на собственное эмоционально-психическое состояние, которое выдвигается в качестве аргумента в защиту себя, аргумента в размышлении о себе и человеке. Размышление это – Мармеладова и молчащего Раскольникова, что является одной из причин, почему Мармеладов обращается «исключительно» к Раскольникову.
«– Для чего я не служу, милостивый государь, – подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, – для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне?» (6: 14).
Данный пример сам по себе может выглядеть довольно незначительным, не подтверждающим определение одной из важнейших черт авторского мышления. Но логика подмены определяет мотивировку поведения и внутреннего состояния персонажа.
Пьянство Мармеладова как виновность (тем более как грех) не оценивается, она как бы «сверхиндивидуальна» (З. Фрейд) (так же как страсть к картам самого Достоевского – в воспоминаниях жены).
Несмотря на то, что Раскольников не раз говорит, что его бес толкнул на злодеяние, все-таки главным остается то, что не старуху убил, а себя (или принцип, мысль). Он и не вспоминает о загубленных двух жизнях, хотя автор говорит, что он сам этому удивляется, т. е. вроде бы автор отстраняется от точки зрения персонажа. Но ведь автор изобразил убиенных (Алену Ивановну и ее сестру Лизавету) настолько неприглядно (как хозяина распивочной, в которой встречаются Раскольников и Мармеладов: лицо – «как будто смазано маслом, точно железный замок»), что читателю их и жалеть не приходится.
Алена Ивановна (коллежская регистраторша, процентщица) – «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом» (6: 8).
Лизавета – «Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, тридцати пяти лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои» (6: 51).
В логике подмены особенно значимы самые важные проблемы, решать которые автор побуждает своих персонажей.
После встречи с семьей Мармеладовых Раскольников воскликнул «вдруг невольно», т. е. мысль была ему дана как бы свыше, из вне его (авторское указание на переход от факта к обобщению, к решению общей проблемы).
«– Ну а коли я соврал, – воскликнул он вдруг невольно, – коли действительно не подлец человек (курсив автора. – И. К.), весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное все – предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..» (6: 25).
Через возведение в ранг всеобщего определит сущность поступка Раскольникова Порфирий Петрович.
«Теорию выдумал, да стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем не такой подлец!» (6: 351).
Человек не подлец – из этого тезиса не обязательно заключение: «нет никаких преград». Из этого тезиса можно вывести и антитезис: «человек – добр». Можно не забыть, что человек – творение Божие, что человеку дана свобода воли, свобода выбора, и только вследствие своего падения человек подвержен греху.
Но у героев своя логика. Если человек не подлец, значит, и рассказанная Мармеладовым история семьи – история обыкновенная, значит, «так тому и следует быть», значит, и предстоящий Раскольникову поступок (убийство) ничем не хуже, чем то, что Мармеладов и его жена Катерина Ивановна, по существу, нравственно убили Соню.
В этическом смысле поведение всех героев идентично. Вспомним, Раскольников говорит о том, что он не «старушонку» (Алену Ивановну) убил, а себя.
«Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!..» (6: 322).
Иван не принимает мир как Божье творение в виду того, что в нем и невинные дети обречены на страдания. Проблему религиозную он пытается решить с позиции социальной несправедливости, человеческой жестокости и отмщения.
В рассказе о зверском убийстве ребенка он использует аргумент к жалости, выбирая естественный для человека самый трагический случай из жизни (маленького мальчика генерал затравил собаками), приходя к выводам: «Для чего познавать это чертового добро и зло, если оно столько стоит?»; «…От высшей гармонии совершенно отказываюсь».
Данную логику и содержание такого мышления Ивана Карамазова следующим образом определил Н. А. Бердяев.
“Он ставит вопрос свой не как христианин, верующий в божественный смысл жизни, а как атеист и нигилист, отрицающий божественный смысл жизни, видящий лишь бессмыслицу и неправду с ограниченной человеческой точки зрения. Это – распря человека с Богом, нежелание принять страдание и жертвы, постигнуть смысл нашей жизни как искупление. Весь бунтующий ход мыслей Ивана Карамазова есть проявление крайнего рационализма, есть отрицание тайны человеческой судьбы, непостижимой в пределах и границах этого отрывка земной, эмпирической жизни. Рационально постигнуть в пределах земной жизни, почему был замучен невинный ребенок, невозможно. Самая постановка такого вопроса – атеистична и безбожна. Вера в Бога и в Божественный миропорядок есть вера в глубокий, сокровенный смысл всех страданий и испытаний, выпадающих на долю всякого существа в его земном странствии. Утереть слезинку ребенка и облегчить его страдания есть дело любви. Но пафос Ивана не любовь, а бунт» (курсив мой. – И. К.) (Бердяев 1993: 86).
Иван Карамазов – не просто атеист и нигилист, он – бунтарь из мира Достоевского, человек, сострадающий людям, готовый остаться с «неотомщенным страданием». Но если путь Раскольникова – это искренняя вера Сони, то для Ивана дьявол создан человеком – «по своему образу и подобию» (в противоположность представлению, что человек создан Богом – по образу и подобию Своему). И автор «наказывает» Ивана и его мышление безумием, раздвоением личности, кошмаром, в котором ему является его второе «я» в облике черта.
Подмена религиозного и часто просто обыденно здравого помыслия мира различного рода эгоистическими, нигилистическими и мироотрицающими умствованиями – вот предмет авторского изображения и в романе «Преступление и наказание», и в романе «Братья Карамазовы».
Поэтому Соня восклицает во время вопроса-улыбки Раскольникова («Это ведь дьявол смущал меня? А?»): «– Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О Господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!» (6: 321).
Поэтому Алеша говорит Ивану после его рассказа об инквизиторе: «– Но… это нелепость! – крикнул он, краснея. – Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула… как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать!» (14: 237).
Сложность феномена логики подмены у Достоевского состоит в том, что она одновременно является и субъективным свойством мышления писателя, и в то же время предметно выражается в мышлении мироотрицающем, которое опровергается Достоевским как содержание этого мышления. Логика подмены – опасное средство человеческого мышления, не выявленное в художественном произведении как вполне ясное для читателя, она может порождать разное понимание того, насколько осознанно и целенаправленно пользуется ею автор.
Шестов обращает внимание на слова Разумихина, который видит оригинальность идеи Раскольникова только в одном – в разрешении «крови по совести». Сама совесть как бы побуждает Раскольникова стать преступником.
«Правду сказал Разумихин – мысль совершенно оригинальная и целиком принадлежащая Достоевскому» (Шестов 1993: 232). «С кем боролся Достоевский? Ответ: с собой, и только с самим собой. Он один, во всем мире, позавидовал нравственному величию преступника – и, не смея прямо высказать свои настоящие мысли, создавал для них разного рода “обстоятельства”» (Шестов 1993: 233); «Борясь со злом, он выдвинул в его защиту такие аргументы, о которых оно и мечтать не смело. Сама совесть взяла на себя дело зла!» (Шестов 1993: 233).
4.3. Логика оправдания (аргумент к жалости)
Автор предикатирует мышлению персонажа логику оправдания, в центре которой аргумент к жалости, тем самым объективируя свое трагическое понимание мира, в котором сердце человека является полем борьбы добра и зла, веры и безверия, греха и осознание своей греховности.
Аргумент к жалости – возбуждение в человеке (слушателе, читателе) жалости с намерением склонить его на свою сторону.
4.3.1. Авторское оправдание персонажа
Как относиться к такому человек, как Мармеладов? Он, что называется, горький пьяница, обрекший на нищенское существование свою семью, дочь – на добывание денег для семьи проституцией.
Разве я не «свинья», не «прирожденный скот»? – спрашивает он Раскольникова.
«Позвольте, молодой человек: можете ли вы… Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? (курсив автора. – И. К.)» (6: 14).
Мармеладова рассказывает о случаях самого низкого своего падения:
«Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою; а живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе с утра до ночи скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте с измалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке наклонною, и я это чувствую» (6: 15).
Но вся речь Мармеладова строится, по существу, на самооправдании, на желании, чтобы его пожалели.
Обратим внимание на то, как выстраивается автором речь персонажа.
4.3.2. Структура высказывания персонажа
1. Мармеладов, сразу за представлением себя Раскольникову, говорит о бедности, о нищете, указывая на это как на причину пьянства:
«…В нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!» (6: 13).
2. Далее следует сообщение о том, что Лебезятников избил Катерину Ивановну, и задается вопрос, смысл которого – указание на неприкаянность Мармеладова:
«Позвольте еще вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?» (6: 13).
3. В речи повествователя
«Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение…» (3: 13–14).
4. Мармеладов указывает на
5. После этого ставится вопрос о просьбе денег «взаймы
«– А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!» (6: 14).
В этих высказываниях персонажа нельзя не видеть крайней степени отчаяния, тем более горестны они в контексте сообщения о дочери, которая «по желтому билету живет-с».
6. Рассуждение о Катерине
«…Ведь надо же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели!» (6: 14).
7. Пить Мармеладов начал потому, что “черта наступила” – ссылка на обстоятельство, которое сверх сил человека:
«И здесь я место достал… Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила…». (6: 16).
8. Уточнение семейного положения: трое детей, Катерина Ивановна все время в работе, заболевание чахоткой. И вновь Мармеладов повторяет мысль о причине своего пьянства:
«Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу… Пью, ибо сугубо страдать хочу!» (6: 15).
9. Жизнь Мармеладова с Катериной Ивановной начинается с определенной жертвы с его стороны. Он берет замуж вдову с двумя детьми, потому что не может смотреть на их страдания.
«…Осталась в такой нищете безнадежной что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии»; «И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание» (6: 16).
10. Наконец, все его самооправдание заканчивается ссылкой на Иисуса Христа, на прощение в будущей жизни, т. е. на самый веский аргумент автора – обращение к вере:
«И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: “Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!” И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: “Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!” И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: “Господи! почто сих приемлеши? ” И скажет: “Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего… ” И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем… и все поймем! Тогда все поймем!.. и все поймут… и Катерина Ивановна… и она поймет… Господи, да приидет царствие твое!» (6: 21).
В уста Иисуса Христа влагаются мысли и логика вполне мармеладовская (и авторская): оправдание греховности людей, подобных Мармеладову, за то, что они осознавали свое ничтожество.
Есть еще один вид оправдания Мармеладова. Не забудем, что его речь оценивается с двух позиций – позиции жалости (Раскольников) и позиции осуждения (окружающие).
«– Да чего тебя жалеть-то? – крикнул хозяин, очутившийся опять подле них.
Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и неслушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника» (6: 20).
Позиция осуждения явно компрометируется сниженным изображением ее носителей (посетителей распивочной и ее хозяином).
Таким образом, в мотивировке поведения Мармеладова вопрос греха сначала подменяется вопросом голода (нищеты, нужды), потом – неопределенным «черта наступила», далее – жалостью, состраданием.
И главное в этой мотивировке: прощение – в виду осознания своего положения, своей ничтожности – при абсолютном непринятии во внимание обстоятельства пьянства.
Речь Мармеладова строится на мысли о сострадании даже к падшему человеку. Однако – заметим! – необходимость сострадания и милосердия в христианской этике не снимает вопроса личной ответственности человека за своей грех. Пьяницу может оправдать другой человек, но не сам пьяница оправдать себя. В данном эпизоде мотивировка своего состояния персонажем и автором совпадают.
Чтобы такая мотивировка была убедительной, для нее необходимы сочувствующий (Раскольников, который подобным образом тоже оправдан автором: над грехом убийства ставится выше грех против мысли) и грозное, безжалостное окружение (хозяин распивочной), «продавец» – в пренебрежительном именовании Мармеладова (социально-бытовая среда).
Последнее – нагнетание Достоевским мрачной зловонной предметно-бытовой среды и злых слушателей-зрителей – явно авторская трансформация, авторская гиперболизация. Хозяин распивочной вполне мог бы быть хорошим человеком, с утра до ночи работающим, кормящим свою семью. Но чтобы состоялась логика оправдания, необходима какая-то сверхиндивидуальная сила – страсть (к вину, к картам, к идее), что довело бы человека до страдания, до самоуничижения, после чего только и может наступить или окончательное падение или возрождение.
Структура личности и ее мотивировка и у Мармеладова, и у Раскольникова одинаковы. Случай с Раскольниковым только «облагорожен» его чистой любящей людей натурой и «возвышенностью» замысла (осчастливить он не себя стремится, а родных, в перспективе – многих). Случай с Мармеладовым более прост, но зато и нагляднее показывает ущербность авторской мотивировки: на личном грехе пьянства построить оправдание человека трудно. «Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу» – здесь уже логика подмены и логика оправдания наслаиваются друг на друга, здесь человек изымается из межличностных отношений и ввергается в область… мазохизма.
Авторская логика оправдания имеет глубокое основание – во внутренней сложности самого Достоевского, изнутри натуры писателя исходила она и уже потом предикатировалась всем структурам его произведений: и характерам персонажей, и их способу мышления, и конфликтам, и предметно-бытовому миру.
«…Он себя оправдывает, и именно система оправдания и является самой интересной в этом отношении, система оправданий, которую гибкая, богатая ресурсами натура выдвигает, чтобы перед самим собою и перед другими оказаться чистым, оказаться правым. Достоевский был при этом так страшно силен внутренне, что усилием своей воли сказал: буду Достоевским, верующим, что православие, самодержавие и народность – это правда, и докажу всему миру, что это правда. Но тут он наталкивался на не менее сильную подсознательную волю Достоевского, которая говорила: все это ложь, все это навязано, все это насилие – правда лежит совсем в другом месте. А рядом с этим третий голос в нем говорил: а может быть, никакой правды и нет, а может быть, то наиболее пошлое, что живет в тебе, – устремление к деньгам, к наживе, к подлости, садическое удовлетворение причинять другим боль и радоваться их страданиям, – все это сатанинское и хищническое в человеке и есть самая настоящая человеческая натура» (Луначарский 1976: 374).
5.1. Религиозно-идеологический контекст
Любой эпизод литературно-художественного произведения Достоевского существует в определенном событийно-повествовательном и религиозно-идеологическом контексте. Последнее у Достоевского особенно значимо. Именно религиозно-идеологический контекст предикатируется в изображаемой социально-бытовой картине, а значит, все повествование и содержание любого отдельного эпизода фокусируется вокруг определенной религиозной проблематики, в эпизоде с Мармеладовым – вокруг проблем, кто есть человек и что такое страдание, сострадание, милосердие, жертвенность, жалость.
До встречи с Мармеладовым автор посылает Раскольникова к старухе-процентщице, чтобы начать рассказ о главном – самоиспытании героя, а также чтобы заинтриговать читателя, который еще не знает «философии» Раскольникова (разрешения «крови по совести»). Читателю сообщаются некоторые детали социально-бытового положения персонажа и его мучительное внутреннее состояние.
В конце встречи с Мармеладовым и его семьей Раскольникову автор приписывает размышления о человеке, подытоживающие смысл только что произошедших событий (рассказ Мармеладова, встреча Мармеладова с Катериной Ивановной): если человек «не подлец», то, значит, «так тому и следует быть!»
«Исповедь» Мармеладова тоже рассказана не только для того, чтобы показать несправедливость общественного устройства:
«…Много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши!» (6: 17).
В основе ее – тоже ответ на вопрос: кто я, горький пьяница, обрекший своим грехом семью на нищету, жену – на чахотку, дочь – на проституцию? Чего я достоин – сострадания, жалости или осуждения?
«Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет?», – спрашивает Мармеладов, рассказав о себе самое неприглядное.
Таким образом, весь рассказ Мармеладова, весь смысл его «исповеди», следовательно, вся изображенная картина жизни Мармеладова и его семьи для Раскольникова и для автора являются только звеном в размышлениях о человеке, только материалом для религиозного осмысления мира.
Публицистические высказывания Достоевского, особенно последних лет жизни, свидетельствуют о его искренней вере и глубоком понимании сущности православия и его связи с русским народом.
«Русский народ весь в Православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что Православие все. Православие есть Церковь, а Церковь – увенчание здания и уже навеки»; «…Кто не понимает Православия – тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того; тот не может и любить русского народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть» (27: 64).
Религиозность писателя была связана с его отношением к самодержавию и революции, что всегда было центральной проблемой для всех, кто писал о Достоевском и его творчестве.
5.2. Изображение не результата, а процесса
По выходе с каторги, в 1854 году, Достоевский писал об эволюции своих религиозных взглядов:
«Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (письмо к Н. Д. Фонвизиной, жене декабриста) (28. 1: 176).
«…Через большое горнило сомнений моя осанна прошла…» (27: 86), – это признание в конце жизни (записи 1880–1881 годов).
Не будем вникать в частности этих высказываний и в нескончаемые споры о религиозности Достоевского, когда цитируются именно эти мысли.
Отметим то, что, может быть, является главным для нас, филологов: в произведениях зрелого периода, в последних пяти романах Достоевский запечатлел не результат этого процесса: через горнило сомнений к осанне, – а сам процесс, вера как преодоление безверия.
Два противоположных друг другу религиозно-
В поучениях старца Зосимы провозглашены мысли, определяющие религиозно-идеологическое содержание зрелого периода творчества Достоевского: любить «все создание Божие, и целое, и каждую песчинку».
«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. <…> Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. <…> Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: “взять ли силой, али смиренною любовью?” Всегда решай: “возьму смиренною любовью”. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего» (14: 289).
Легенда об инквизиторе – это то, что вложено в уста сходящего с ума персонажа, Ивана Карамазова. Толкований «легенды» множество, но вот как высказался о ее смысле В. В. Розанов, один из самых чутких писателей и критиков рубежа XIX – XX веков:
«…Она (“Легенда”. – И. К.) есть единственный в истории синтез самой пламенной жажды религиозного с совершенною неспособностью к нему. Вместе с этим в ней мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему, простирающуюся до готовности – оставить Бога и пойти разделить унижение человека, зверство и глупость его, но и вместе – страдание» (Розанов 1996: 103).
«…“Легенда” – это горький его (человека. – И. К.) плач, когда потеряв невинность и оставленный Богом, он вдруг понял, что теперь совершенно один, со своею слабостью, со своим грехом, с борьбой света и тьмою в душе своей» (Розанов 1996: 113).
Где же сам Достоевский? В какой степени он разделяет первое или второе понимание мира и Бога? На эти вопросы, как при жизни Достоевского, так и до сих пор, отвечают по-разному.
Один из ответов, в котором учитывается сложная духовная и политическая атмосфера 1870-х годов: террористические акты против самодержавия, убийства высокопоставленных чиновников, вплоть до Императора Александра II в 1881 году:
«Пока же Россия “колебалась над бездной”: он (Достоевский. – И. К.) полагал, что в эту бездну ее способна ввергнуть каждая из противоборствующих сторон. Алеша Карамазов готовился в цареубийцы» (Волгин 1991: 449–450).
Последнее утверждение в цитированном высказывании основывается на изложении А. С. Сувориным неосуществленных планов продолжения «Братьев Карамазовых»:
«Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…» (дневниковая запись 1887 года) (Суворин 1992: 16) (Одно из толкований этого высказывания А. Суворина – см.: Дунаев 1997: 515).
Примечателен факт, что два духовных лица, два Первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви дали различную оценку творчества Достоевского, его религиозности и значения писателя в русской православной традиции – Блаженнейший Митрополит Антоний (Храповицкий) (1863–1936) и Блаженнейший Митрополит Анастасий (Грибановский) (1873–1965). Для Митрополита Антония Достоевский – прежде всего проповедник возрождения.
«Познание истины и сострадающая любовь – вот главнейшие побуждения к проповеди. Писатель как будто видел рай Божий и созерцал в нем возрожденных людей, чистых и блаженных, освободившихся от всех противоречий жизни совершенно скоро и просто. С этих-то высот общего духовного блаженства взирает он на мир грешный и скорбный и, в стремительном порыве любви и слова, тщится вознести его к небу: любовь эта и вера так сильна, что все людские насмешки бессильны пред ним <…>. Мучительно знание истины, когда любишь людей, не знающих ее, но эта мука, эта греховная тьма мира еще увеличивали любовь к людям» (Антоний 1965: 23).
Постоянное внимание Достоевского к темным сторонам жизни, к описаниям мрачной грязной социально-бытовой среды объясняется Митрополитом Антонием следующим образом:
«Когда Достоевский описывает
Первая половина этого высказывания не вызывает возражений, но «теплая атмосфера нежной любви и радости» – если такое и есть, то, думается, к роману «Преступление и наказание», который находится в центре наших рассуждений, не относится.
Митрополит Антоний обращает особое внимание на проблему взаимодействия сознательной индивидуальной воли и природы человека.
«…Об этой-то разности между сознательною индивидуальною волею и расположениями нравственной природы (добрыми и злыми), постоянно дающими знать о себе даже и против желания человека, Достоевский умел говорить с поразительной силою, особенно любя рисовать борьбу доброй природы со злою личной, и победу первой над последнею. Правда, его повести вмещают в себя и обратные явления, когда злая природа человека против желания выступает обличителем quasi доброй воли, напр., в рассказе “Двойник”, или в явлении беса Ивану Карамазову, но чаще мы находим победу доброй природы. Здесь, можно сказать, шедевр его творчества, центральный вопрос жизни его героев» (Антоний 1965: 34).
Митрополит Антоний – автор целого ряда трудов о Достоевском. Митрополит Анастасий высказался о Достоевском кратко, в книге «Беседы с собственным сердцем». В его оценке в концентрированном виде выразились размышления многих исследователей и критиков, пишущих о Достоевском. Но так как в данном случае они исходят от духовного лица, к ним наше особенное внимание.
«Высокие проявления человеческого духа, для естественного таланта, даже такого, каким владел Достоевский, воплотить в литературных образах всегда гораздо труднее, чем сатанинские глубины зла. Не будет грехом ни пред истиною, ни пред самим великим писателем, сказать, что кроткий облик старца Зосимы или Алеши Карамазова не в состоянии затмить пред нами яркий образ Ивана Карамазова, с его самоутверждающей гордыней, сверкающей перед нами каким-то зловещим, фосфорическим блеском. Его гордыня страдания не вызывает в нас сочувствия, ибо сатана также есть “мученик” своей свободы.
Своим по временам подлинно “жестоким” пером (См.: Михайловский 1989. – И. К.) Достоевский, как острым резцом, прошел по мягкому русскому сердцу, и, потрясши до основания, вывел его из духовного равновесия. Он показал впечатлительному русскому обществу соблазнительный образ человека, находящегося по ту сторону добра и зла и в этом пункте до известной степени вошел в соприкосновении с Ницше: не напрасно последний почувствовал в творчестве нашего писателя что-то сродное себе и говорил, что Достоевский “единственный глубокий психолог, у которого он мог кое-что взять для себя”.
Развивая везде свою излюбленную идею о двух безднах, борющихся в глубине русского сердца и имеющих, так сказать, одинаковое право на свое существование, в силу данной человеку свободы, Достоевский тем самым косвенно вынес для нашей революции если не моральное, то, по крайней мере, психологическое оправдание» (Анастасий 1998: 141–142).
В более резкой форме о том же писал Лев Шестов, цитируя слова Ивана Карамазова: «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит».
«…Все наши надежды, и не только те, которые в книгах, но и те, которые в сердцах людей, жили и держались до сих пор верой, что ради торжества добра над злом ничем не страшно пожертвовать. И вдруг неизвестно откуда является человек и торжественно, открыто, почти безбоязненно (почти, ибо все-таки Алеша лепечет что-то в возражение Ивану) посылает к черту то, пред чем все народы всех веков падали ниц! И люди были настолько легковерны, что из-за жалкой болтовни Алеши простили Достоевскому страшную философию Ивана Карамазова» (Шестов 1993: 243).
Далее Митрополит Анастасий пишет о том, что из творчества Достоевского «течет одновременно и горькая и сладкая вода». Творчество Достоевского породило два типа людей: одни пошли к вере, другие – усвоили себе бунт Ивана Карамазова и понесли его в народные массы с целью их революционизировать. (Полемика с Митрополитом Анастасием – см.: Плетнев 1975: 98–101).
«Быть может революция совершилась, по Достоевскому, не только потому, что он прозрел ее подлинную сущность, но отчасти и предупредил ее образ – самою силою психического внушения, исходящего от его реалистического художественного гения, забывшего на этот раз завет Гоголя, по которому всякое создание искусство должно вносить в человеческую душу успокоение и примирение, а не смятение и раздвоение» (Анастасий 1998: 143).
Все эти вопросы, заключает Митрополит Анастасий, требуют вдумчивого исследования, «каковая обязанность лежит на грядущих поколениях».
Если себя мы отнесем к «грядущим
5.3. Автор в тексте
При всех различных оценках творчества Достоевского и его религиозных взглядов будем иметь в виду, что в эпизоде встречи
«Господи, да приидет Царствие Твое!» (5: 25).
Достоевский сам излагал основное содержание сюжетной линии Раскольникова.
«Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он – кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя бы погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его» (письмо к М. Н. Каткову, сентябрь 1865) (28, 2: 137).
В начале романа «Преступление и наказание» автор определил сущность и глубину бездны, в которую погрузился Раскольников, что высказывается в письме его матери Пульхерии Александровны.
«Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» (6: 34).
Соня абсолютно верно поняла, что случилось с Раскольниковым.
«– О, молчите, молчите! – вскрикнула Соня, всплеснув руками. – От Бога вы отошли, и Бог вас поразил, дьяволу предал!..» (6: 321).
Одна из центральных сцен романа (часть четвертая) – встреча Раскольникова и Сони, чтение Соней Евангелия от Иоанна, эпизода воскресения Лазаря (глава 11, 1–50; глава 12, 9–11) (Толкование эпизода воскресение Лазаря – см.: Жизнь Иисуса Христа 1990).
«Евангельское чтение о воскрешении четверодневного смердящего Лазаря есть смысловой энергетический узел всего романа» (Дунаев 1997: 344).
Посмотрим, конспективно, как сделан этот эпизод (толкование эпизода – также см.: Есаулов 1998, Дунаев 1997).
1. Раскольников думает, что у Сони в ее положении есть только три пути («броситься в канаву», сумасшедший дом, разврат). Он молод, пишет Достоевский, «отвелечен», жесток, скептичен. Соня сейчас для него – юродивая, полусумасшедшая. И вот он решает испытать ее: «не чуда ли ждет?» – так пусть расскажет, о чем молится Богу, пусть почитает Евангелие.
«Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось первого слога» (5: 250).
2. Если эпизод встречи
«“Был же болен некто Лазарь, из Вифании…” – произнесла она наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось» (5: 250).
3. Автор сообщает о том, что Раскольников понимал, почему Соня решилась читать Евангелие, что значило сообщить ему о заветном, тайном:
«Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее…» (6: 250).
4. Пока Раскольников рассуждает (косвенная передача внутренней речи
Когда заболел Лазарь, Иисуса Христа не было в Вифании. Мария и Марфа, сестры Лазаря, посылают сказать о болезни брата Иисусу Христу.
«Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий» (Иоанн. 11: 4).
Иисус Христос знает, что Лазарь умрет и потом воскреснет.
Чтение Сони заканчивается сорок пятым стихом:
“Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него”.
Иисус Христос предлагает ученикам идти в Иудею, где его недавно отвергли, целесообразно ли идти в Иудею – об этом говорят ученики.
«Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего.
А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним» (Иоанн. 11: 9–10).
В этих словах – опять же предвидение: многие иудеи должны узнать о смерти Лазаря, должны придти утешать Марию и Марфу, а увидев воскресение Лазаря, уверовать в Иисуса Христа, Сына Божьего.
«Потом» Иисус Христос сказал ученикам, что Лазарь «заснул». Ученики поняли Его в прямом смысле.
«Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер.
И радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему» (Иоанн. 11: 14–15).
«Радуюсь за вас…» – потому что Лазарь воскреснет – «дабы вы уверовали».
Иисус приходит в Вифанию, Лазарь – «уже четыре дня в гробе».
5. Главное событие в цитируемом Достоевским отрывке из
После чтения Соней девятнадцатого и двадцать второго стихов:
«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог» –
Достоевский указывает на внутреннее состояние Сони:
«Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос…» (6: 250).
Предчувствовала, потому что сейчас будет читать не только самое важное («тайное»), но и такое, что прямо обращено к тому положению, в котором оказался Раскольников, потому что (здесь Достоевский вновь прервет чтение) – «точно сама во всеуслышание исповедовала».
«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь (курсив автора. – И. К.); верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему
(и как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала):
Так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир» (6: 250).
6. Вновь автор прерывает чтение: сказанное настолько важно – важно и для Раскольникова, что Соня «быстро подняла было на него глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее».
Заметим, что все эти авторские
Далее Соня не просто продолжает читать, но Достоевский пишет: «Дочли до 32-го стиха», т. е. читали уже как бы вместе.
«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его; и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?» (6: 251). (32–37 стихи).
7. Теперь Соня явно обращается к Раскольникову,
Автор единственный раз во всем эпизоде передает внутреннюю речь Сони. Ей «мечтается», что Раскольников, как «слепые иудеи», уверует. Перерывами в чтении, указаниями на внутреннее состояние Сони автор расставляет смысловые акценты – и в Евангелии, и в речи героини, обнажая свою позицию, усиливая читательское понимание и впечатление.
И на чьей стороне Достоевский – при вдумчивом чтении и обращении внимания на форму, стиль, композицию повествования – не может быть сомнения. Раскольников думает: «Да, так и есть!», т. е. изначально воспринимает Соню как юродивую, но для автора – «голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили ее», а это уже переход на внутреннюю точку зрения Сони, это уже утверждение ее искренности и правоты.
«Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: “не мог ли сей, отверзший очи слепому… ” – она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют… “И он, он (курсив автора. – И. К.) – тоже ослепленный и неверующий, – он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же”, – мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.
“Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дни, как он во гробе”.
Она энергично ударила на слово: четыре.
“Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры (курсив Евангелия. – И. К.), где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший (курсив автора. – И. К.),
(громко и восторженно прочла она,
обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет.
Тогда многие из иудеев. Пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него (курсив автора. – И. К.)”
Далее она не читала и не могла читать, закрыла книжку и быстро встала со стула» (6: 251).
На протяжении описания встречи Раскольникова и Сони мы видим, как автор нюансирует высказывания персонажей внесубъектными средствами выражения авторской позиции: перерывами или остановкой действия, переносом повествовательной точки зрения от одного персонажа на другого.
«Достоевский умел именно изображать чужую идею, сохраняя всю ее полнозначность как идеи, но в то же время сохраняя и дистанцию, не утверждая и не сливая ее с собственной выраженной идеологией» (Бахтин 1979: 97).
Смыслы и образная система евангельских событий явно соотносятся автором с персонажами романа, с тем, что происходит с ними.
В начале встречи Раскольников целует ноги Сони.
«Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился» (6: 246), – говорит он.
В самый трагический момент чтения Евангелия он сидит, «отвернувшись». Что творилось в его душе – этого уже нельзя было описать.
Но после чтения он начинает говорить о «деле», он вновь одержим желанием свободы и власти – «Над всей дрожащей тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это тебе мое напутствие!» (6: 253).
Раскольников, как слепой, видит свет: истинную веру Сони, подтверждаемую всей ее жизнью, – и не верит.
Но человек, так способный поклониться человеческому страданию, не потерян для веры.
***
В начале романа из глубины своей греховности взывал к Господу отец Сони:
«Господи, да приидет Царствие Твое!» (6: 21).
В середине повествования Соня исповедовала веру словами евангельский Марфы:
«Так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир» (6: 250).
В конце романа Раскольников остается с Евангелием и земным воплощением веры, страдания, сострадания и всепрощения – Соней.
«Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере…» (6: 422).
Раскольников все еще не преодолел своего безверия («по крайней мере»), но путь его дальнейшего духовного преображения, духовного воскресения обозначен автором самой художественной структурой эпилога, заканчивающегося указанием на время последних событий в романе – время Великого Поста, Пасхи – Святого воскресения Господня и Святой недели (О символике христианского календаря в произведениях Достоевского – см.: Захаров 1994).
***
Такое мог написать и писал только глубоко верующий человек.
Вера как преодоление безверия – так можно определить главное в религиозной и нравственной позиции автора, в которой запечатлены как его собственный путь к вере, так и понимание главной беды своего времени – безверия.
Но при всем при том, мы должны понимать, что православные традиции в творчестве Достоевского преломились в сложной образно-повествовательной структуре – в изображении не результата религиозных исканий персонажей и автора, а самого процесса, в изображении не праведности, а греха – как отступления от веры – и наказания, душевной гибели, на которую обрекает себя человек, отрекшийся от Бога или взбунтовавшийся против Его творения. Для изображения такого видения человека Достоевский использовал материал, доступный ему по собственному жизненному опыту, окрашивая всю создаваемую картину эмоциональным комплексом, трагическим в своей основе, приписывая своим персонажам логику оправдания, в чем проявилось понимание писателя слабости человеческой и надежда на торжество милосердия.
Такого усложненного самовыражения, такого разнообразия скрытого и явного предикатирования себя художественной структуре русская литература больше не знала.
«Быть может, из всех мировых писателей Достоевский обладал самым необычным видением мира и самым могущественнейшим даром воплощения. Неправдоподобны судьбы его невероятных героев; необычна обстановка их жизни, загадочны их страсти и мысли» (Мочульский 1995: 361).
Если говорить не только о нашем «филологическом» авторе, которого мы как-то понимаем и толкуем при чтении и анализе литературно-художественного произведения, но иметь в виду конкретно Федора Михайловича Достоевского, то последнее слово о себе он сказал сам – последним днем своей жизни.
Почувствовав приближение смерти, Федор Михайлович попросил жену дать ему Евангелие – то Евангелие, которое было ему подарено, когда он ехал на каторгу, женами декабристов, с которым он не расставался всю жизнь. Перед смертью Федор Михайлович исповедовался, причастился, благословил детей и жену. А Евангелие велел передать сыну (см.: Достоевская 1987: 396–399).
________________
Литература
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.
Анастасий (Грибановский), митр. Беседы с собственным сердцем: Размышления и заметки. 3-е изд. Канада, 1998.
Антоний (Храповицкий), митр. Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения. Канада, 1965.
Артсег. Владелец вещи, или Онтология субъективности. Йошкар-Ола; Чебоксары, 1993. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979.
Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. М., 1948.
Бердяев Н. А. О русских классиках. М., 1993.
Волгин И. Л. Последний год Достоевского: Исторические записки. М., 1991.
Добролюбов Н. А. Собр. соч.: в 9 т. М., 1961–1964.
Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972–1990.
Достоевский: Эстетика и поэтика: словарь-справочник. Челябинск, 1997.
Ф. М. Достоевский и Православие. М., 1997.
Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 5 ч. М., 1997. Ч. III: Ф. М. Достоевский.
Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. научн. трудов. Петрозаводск, 1998. Вып. 2.
Жизнь Иисуса Христа Спасителя мира. Настольная книга для семьи и школы / сост. по Евангелию Ф. Ф. Пуцыкович. Греция, 1990.
Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994.
Классический психоанализ и художественная литература. СПб., 2002.
Кожинов В. В. Победы и беды России. М., 2002. («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского).
Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы. М., 1976.
Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995.
Михайловский Н. К. Жестокий талант // Михайловский Н. К. Литературная критика: Статьи о русской литературе XIX–XX веков. М., 1989.
Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
Плетнев Р. Время и пространство у Достоевского // Новый журнал. Нью-Йорк, 1967. Кн. 87.
Плетнев Р. О духах зла и дьяволе у Достоевского и Толстого // Новый журнал. Нью-Йорк, 1975. Кн. 119.
Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях. М., 1996.
Соловьев В. С. Соч.: в 2 т. М., 1988.
Страхов Н. Н. Литературная критика: сб. ст. СПб., 2000.
Суворин А. С. Дневник. М., 1992.
Фрейд Зигмунд, психоанализ и русская мысль. М., 1994.
Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
Шестов Л. Избранные сочинения. М., 1993.
Шульц Оскар фон. Светлый, жизнерадостный Достоевский. Петрозаводск, 1999.
Эртель А. И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., 1985.
Литература дополнительная
Белик А. П. Художественные образы Ф. М. Достоевского. М., 1974.
Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1974.
Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М., 1988.
Долинина Н. Г. Предисловие к Достоевскому. М., 1980.
Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1990.
Достоевский Ф. М. и Православие. М., 1997.
Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974–1996.
Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т. Л., 1991. Т. I. Ч. 2.
Иванов Вяч. И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. М., 1995.
Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. М., 1993–1999. Т. 6. Кн. III. [«Достоевский как человек и характер»; «Достоевский как художник»; «Достоевский как публицист»; «Образ Идиота у Достоевского»; «Николай Ставрогин (Достоевский. “Бесы”)»].
Кошкаров В. Л. Как мыслят герои Достоевского (номинация психических состояний) // Новые аспекты в изучении Достоевского: сб. научн. тр. Петрозаводск, 1994.
Леонтьев К. О всемирной любви (Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике) // Ф. М. Достоевский и Православие. М., 1997.
Лосский Н. Достоевский и его христианское миропонимание // Ф. М. Достоевский и Православие. М., 1997.
Нечаев В. С. Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979.
Осмоловский О. Н. Достоевский и русский психологический роман. Кишинев, 1981.
Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982.
Роман «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского в литературной науке XX века. Ижевск, 1993.
Русские эмигранты о Достоевском. СПб.,1994.
Сараскина Л. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990.
Селезнев Ю. И. Достоевский. М., 1990. (Сер. «Жизнь замечательных людей»).
Соловьев С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского: Очерки. М., 1979
Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979.
Бэлнеп Роберт Л. Структура «Братьев Карамазовых». СПб, 1997.
профессор кафедры литературы Марийского государственного университета (Йошкар-Ола), доктор наук