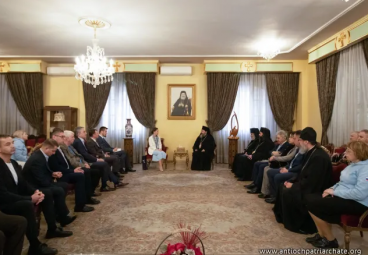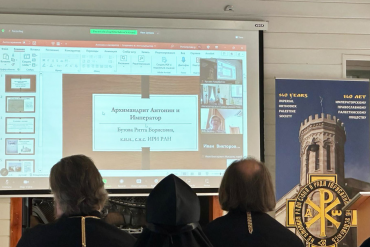Архимандрит Антонин (Капустин): первый день на Святой Земле
.jpg)
О его публицистическом таланте можно судить по его воспоминаниям, которые написаны живым, образным языком. Текст, предлагаемый вашему вниманию, написан архимандритом Антонином в первый день его пребывания на Святой Земле, в сентябре 1957 года, ровно 160 лет назад. Это ещё одна круглая дата в истории Святой Земли, в истории такого уникального явления, как «Русская Палестина», у истоков создания которой стоял великий подвижник Архимандрит Антонин (Капустин).
Его имя вписано золотыми буквами в историю Святой Земли: именно благодаря этому удивительному человеку, память которого совершается в эти дни, мы обязаны созданием уникального явления «Русской Палестины» – громадных имущественных и земельных владений России в Святой Земле.
Его разносторонняя личность проявляла себя многогранно – и в неутомимой деятельности по собиранию по крупицам и приобретению участков на святых местах, и в занятиях археологией, в коллекционировании и живописи, в увлечении астрономией и публицистикой.
Сегодня мы представляем воспоминания архимандрита Антонина, написанные им в тот день, когда он, великий труженик Святой Земли, впервые вступил на землю Палестины – это был сентябрь 1857 года. В них внимательный читатель увидит для себя много нового, подчас неожиданного и весьма неоднозначного. Но это – живые воспоминания очень неординарного человека, живого, разносторонне одарённого, открытого, тонко чувствовавшего и имевшего внутреннюю смелость говорить то, что чувствует…
Пятница, 20 сентября. День первый
Палестинское солнце приветствовало нас ослепительными лучами. В блеске их скрывался берег, которого усиленно, но напрасно искал взор. Расстилавшаяся между солнцем и морем пелена паров позволяла различать только самую лёгкую черту, чуть-чуть отделявшуюся от поверхности морской и несколько наклонённую к ней. Это был хребет Иудейских гор. Взявши высоту солнца, мы узнали, что находимся на широте Яффы. Поворотив потому прямо на восток, мы ещё с полчаса времени не различали ничего, кроме очертаний берега, почти исчезавшего в лучах солнца. Наконец, чёрною точкою стала отделяться перед нами одна возвышенность, которая вскоре, с помощью трубы, оказалась массою зданий. Это была апостольская Иоппия, полная воспоминаний о первоверховном Петре. Далеко от неё фрегат наш бросил якорь, боясь мелководья и волнения.
Простым глазом едва можно было различать частности города. Я стал смотреть в трубу; думалось, что одна из многочисленных террас иоппийских должна быть та самая, с которой апостол научился отраднейшему для всего человечества уроку о вселенском составе Христовой Церкви. Поразительным кажется этот божественный урок от местности, на которой он преподан. Иоппия была и есть дверь Иудеи в Европу. Здесь, в самом деле, как бы всего приличнее и уместнее было начаться распространению царства Божия за тесные пределы строго замкнутого в себе иудейства. Отсюда была прямая дорога идей в процветавшую тогда философиею Александрию и на все острова языков до славных мудростию эллинов и до миродержавных римлян – этих четвероногих гадов в отношении к Богопознанию и Богопочтению, несмотря на всю их гражданскую и военную славу в тогдашнем мире.
Кто изменил славу нетленного Бога в подобие птиц и четвероногих и гад, тот, как образ и подобие своего божества, конечно, должен был походить на таинственные образы, явившиеся апостолу. Местность дивного видения была, однако же, не там, где искал её глаз. Нам сказали после, что она отстоит от города на полчаса пути. Я знал заранее, что не придется видеть её. В распоряжении нашем не было ни одной лишней минуты; и потому оставалось довольствоваться одним усиленным представлением знаменательного явления, обнимавшего собою и нас, дальних пришельцев. Также нельзя было надеяться увидеть и другое замечательное место Яффы – дом, где совершилось чудо воскресения Тавифы.
Прямо с пристани мы были приняты нашим вице-консулом и препровождены в греческий монастырь. Город расположен уступами по скату холма, и монастырь занимает средину на этом скате. Каменная лестница ведёт к нему почти прямо с пристани. Имя монастыря принадлежит ему более по идее или по преданию, чем по праву. Он есть подворье Иерусалимской патриархии или, точнее, разбитая на многие отделения и дворы гостиница, начальник которой титулуется игуменом. Подначальные его, или «братия», обыкновенно и чуть ли не исключительно заняты служением поклонникам и, надобно сказать, служат с достохвальным усердием. Впрочем, и богослужение, по правилу монастырскому, не оставляется ими. Утреня и вечерня отправляются ежедневно. Их церковь, выстроенная недавно попечением патриарха нынешнего, обширна и благолепна. Она – единственная православная церковь города; нет нужды говорить, что мы приняты и угощены были с полным радушием.
С длинной и широкой террасы монастыря можно было любоваться великолепным видом Средиземного, поистине библейского моря. Воображение без труда создавало на нём картину приходящих и отходящих кораблей Соломона, но нелегко было вообразить праотца Европы Иафета сидящим в пристани своего города и надсматривающим за построением первого мореходного судна по образцу – конечно, памятному всему роду человеческому – ковчега. Яфет и Яффа так созвучны, что невольно хочется верить древнему преданию, но боязнь исторического греха удерживает воспламеняющееся воображение. Иначе вся Европа должна бы обращаться с благоговением к Яффе как своей колыбели, и все без исключения мореходцы должны бы принесть посильную лепту на сооружение в Яффе памятника в увековечение своей признательности отцу мореходства.
Солнце палило июльским зноем. Нам предлагали отдохнуть ради предстоявшего всенощного путешествия, но напрасно было всякое усилие заснуть. Духота гнала вон из комнаты на ту же освежаемую морским дыханием террасу. Я подошёл к окраине террасы и долго смотрел вниз на набережную улицу, идущую возле самой стены монастырской. Вид самый неотрадный! На непривычного к Турции путешественника он должен производить тягостное впечатление. Всё там для него, от великого до малого, не похоже на то, что он знал и видел у себя дома.
Всё должно уверить его, что Земля Святая не похожа на его родину. В первый раз он, может быть, с прискорбием заметит, что между созданными им самим образами библейскими и между действительностью есть разница часто безмерная. Его представления городов, деревень, полей, лесов и рек, упоминаемых в священной истории, неожиданно оказываются для него неверными, простым осколком окружавших его дотоле предметов. Тяжело, но полезно такое разочарование. Оно приготовляет поклонника к выходу из той исключительности, в которую его невольно поставила его привычка видеть одно и то же у себя на родине, – оно расширит его большею частью ограниченный круг зрения на предметы знания и веры и, если не тотчас, то мало помалу приучит его к умеренности и терпимости, столько нужной тому, кто решился принесть на Гроб Господень дань и своей признательной души вместе с тысячами других подобных ему пришельцев, часто не похожих на него ничем, кроме одного образа человеческого и имени христианского. Всё это тем с большею живостью думалось мне, чем пристальнее всматривался я в жизнь улицы.
Вот один соотчич, видно, недавный пришелец, как и я, – покупая что-то в съестной лавке у араба, попеременно то с озлоблением, то с отчаянием силится вразумить его «русским языком», что у него нет других денег, кроме русских. Не было надобности гадать, каким чувством он был одушевлён. Резкие и чересчур домашние выражения его, обращённые к торговцу, показывали ясно, что земляк считает Палестину своей губернией.
Часов около двух дня дано было приказание собираться в дорогу. Вскоре шум под самым монастырём, какой у нас можно услышать только во время пожара или другого какого необыкновенного события, ознаменовал прибытие подвод наших, взятых до Иерусалима. Это были пять-шесть лошадей, столько же мулов и около двадцати ослов. Их подвели. Тем и окончилось содействие нашему отправлению вожатых. Всё прочее нужно было сделать самому и делать не зевая. Общество наше состояло почти всё из людей, которые не заставляют просить себя, и потому лошади немедленно были разобраны, а вслед за тем и мулы. Я сел на муле. В беспорядке примерном тронулись мы с места и кое-как выбрались из тесного и душного города на чистое поле.
На протяжении двух вёрст за Яффою нас сопровождали сады зелёные и благоуханные, коим оградою служил кактус, лелеемый у нас в банках, а здесь достигающий высоты саженной и презираемый за негодность. Миновав сады, мы остановились и затем уже в порядке поехали в открытую равнину, в конце которой на горизонте синела неровная линия гор.
Первые впечатления были самые весёлые. Глазам всех виделась наша любезная Россия. Ровное поле, чёрная земля, кое-где вдали участки леса – всё напоминало её, широкую и необъятную. Только дальние горы возражали собою на этот обман чувств. Всякий раз, как я возвращался к неизбежному сознанию того, что я в Иудее, я как бы пробуждался от сна. Первая, встретившаяся в стороне от дороги деревня показала, что мы на чужой земле. Несколько скученных на холмике серых или, точнее, чёрных землянок, оттеняемых деревьями своеобразного вида, мало походили на то, что мы привыкли называть селом или деревней. Таких деревень в течение трёх часов мы встретили около пяти.
Непривычность верховой езды заставляла несколько раз уже высматривать впереди вожделенную Рамлю или Рэмли. С небольшой возвышенности наконец открылась одиноко стоящая среди леса четырёхугольная башня арабско-готического стиля, предвестница близкого отдыха. Город, впрочем, был не там, где виднелось одинокое строение. Несколько минаретов, восстававших как бы из земли впереди дороги, указали местность древней Аримафеи, куда мы вскоре и прибыли.
Последние лучи солнца бросали розовый цвет на белевшие стены с фиолетовыми тенями. Множество куполов давали своеобразный характер городу, также скученному, как и Яффа. На высоком шесте утверждённый крест с яблоком обозначал латинский монастырь, встречающий путника прежде всех строений городских. Трое капуцинов, сидя на террасе, глядели на караван наш сперва с участием, а потом равнодушно. Мы проехали под самыми стенами монастыря и вступили в город, где пробирались узкою улицею минут десять, пока не въехали в один тесный и не очень чистый двор. Нам сказали, что это монастырь греческий. Ничего похожего на монастырь в привычном смысле слова мы опять не нашли.
Несколько лестниц вели со двора вверх. Взобравшись на одну из них и ожидая увидеть себя в комнате, мы сверх чаяния увидели перед собою опять двор, или обширную террасу самого неправильного вида, составлявшую верхний ярус монастырских зданий и обставленную там и сям отдельными домами или комнатами, в которых нас и разместили. Это также гостиница или подворье Святого Гроба, как и яффский монастырь. Монахи служат поклонникам. Старший из них называется игуменом. Кроме братии живёт в заведении и одна старица для услужения поклонницам в случай какой-нибудь особенной нужды. И игумен, и старица жили прежде в Молдавии и знают несколько слов по-русски.
Из разговора с почтенным старцем я узнал, что в городе очень мало христиан, что, впрочем, есть два приходских священника православных. «С фраторами (латинскими монахами) живём мирно, – говорил игумен. – Ходим друг к другу. Что там наверху (т. е. в Иерусалиме) делают, нам до того дела нет. Да и не из чего ссориться». Этот спокойный взгляд на вещи говорил много в пользу старца, как видно, хорошо искушённого опытом. Положено было отдыхать до восхода луны. Отдых однако же в другой раз оказался невозможным. Мысль о близости Иерусалима заставляла раскрывать глаза среди самой глубокой дремоты. Наконец, около девяти часов вечера слабое мерцание ущерблённого светила позвало нас в путь, без сомнения, самый памятный в жизни каждого из нас…
Архимандрит Антонин (Капустин). «Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме»
Индрик; Москва; 2007