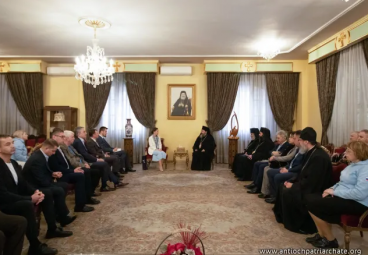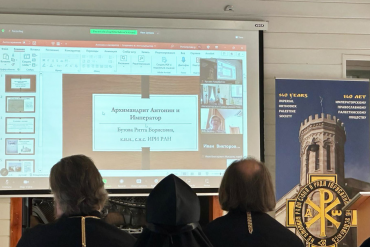Пасхальность и отечественная словесность. И.А. Есаулов
Важнейшие события в истории национальной культуры всегда по-своему символичны, хотя их символика — если не сказать промыслительность — проступает не сразу, но лишь в открытых просторах большого времени. Историю русской словесности начинает «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Медиевисты расходятся в определении года, когда было произнесено это «Слово…», однако важнее другое; оно, по-видимому, прозвучало либо перед пасхальной утренней службой, либо же в первый день Пасхи. Таким образом, пасхальная по своему духу проповедь является одновременно и истоком русской художественной литературы как таковой. Этот факт еще не осмыслен в должной мере. Поэтому он пока не стал и предметом особой научной рефлексии. Однако пытаясь рассмотреть христианское основание русской литературы, приходится так или иначе интерпретировать положение «Слова…» митрополита Илариона относительно годового православного круга.
Обратим внимание на знаменательное для отечественной словесности обстоятельство: центральная для митрополита Илариона ценностная оппозиция Закона и Благодати не только намечена в первой же пасхальной литургии, поскольку первое евангельское чтение в пасхальную явчь — начало Евангелия от Иоанна, но существенно также, что это чтение завершается как раз семнадцатым стихом, в котором сопоставлены Закон Моисея и Благодать Христа. Таким образом, для православных мирян возникала своего рода семантическая единица воспринимаемого ими евангельского текста, границами которой являлись первый стих Евангелия от Иоанна «Въ начале бе Слово, и Слово бе къ Богу, и Богь бе Слово» и семнадцатый: «Яко законъ Моисеомъ дань бысть, благодать (же) и истина Иисусъ Христомъ бысть». Эта финальная акцентуация пасхального торжества Христа являлась несомненным фактом сознания каждого православного человека.
Не стоит забывать, что для многих поколений русских людей не домашнее чтение, а именно литургическая практика была основным способом освоения текста Священного Писания. Как известно, апракосные Евангелия и Апостол, то есть назначенные для богослужебного употребления, разделены на особые отделы (зачала). Это деление не совпадает с делениями на главы. Евангелие от Иоанна состоит из 67 зачал. Каждое зачало представляет собой нечто цельное и законченное. Рассмотренная нами семантическая единица является таким зачалом, задающим особый горизонт ожидания православным христианам — на целый церковный год, поскольку подвижный календарный годовой цикл (синаксарий) начинается днем Пасхи.
Православное соборное богослужение и сформировало особую поведенческую культуру, особое представление о мире русского человека. Давно уже пора пересмотреть до сих пор доминирующее в гуманитарных науках искусственное противопоставление «народного» православия православию «догматическому» за которым мерцает старая и ложная оппозиция «народное/церковное». Гораздо плодотворнее описание «общего знаменателя», конституирующего единство русской культуры. Только после этого описания корректно выделять различные ярусы общего инварианта.
Не стоит забывать, что фольклористы, обратившиеся к устному народному творчеству в XIX веке, и жившие в православной стране, совершенно естественно замечали, подчеркивали и фиксировали в первую очередь те явления, которые резко отличаются от привычного им (иначе говоря, именно православного) общекультурного фона. Сам же этот «фон» как раз потому мог порой и не осознаваться ими как нравственная и эстетическая система координат, что он представлял собой саму стихию существования русского национального сознания и самой России.
Хотя до сих пор не разработана сколько-нибудь общепринятая методология, которая позволяла бы успешно соотнести две различные сферы — духовную и литературно-художественную, для нас представляется несомненным, что для описания именно русской литературы и в целом культуры сами границы между духовным и светским должны пониматься не только как разделяющие, но и соединяющие различные явления национальной жизни в существенном единстве определенного типа культуры.
Православный тип духовности не должен выноситься за скобки истории отечественной литературы. Изучать «литературность» как таковую, как чисто профессиональное писательское занятие,— в отрыве от национальной культуры, в отрыве от глубинных духовных корней этой культуры вряд ли возможно без существеннейшего искажения самого предмета изучения.
Годовой литургический цикл ориентирован как раз на события жизни Христа. Главными из них являются Его Рождение и Воскресение. Соответственно, важнейшими событиями литургического цикла являются празднование Рождества и Пасхи. Если в западной традиции можно усмотреть акцент на Рождество (и соответственно говорить о рождественском архетипе), то в традиции Восточной Церкви празднование Воскресения остается главным праздником не только в конфессиональном, но и в общекультурном плане, что позволяет сделать вывод о наличии особого пасхального архетипа и его особой значимости для русской культуры.
Русская словесность первых семи веков своего существования отчетливо христоцентрична, то есть изначально ориентирована прежде всего на Новый Завет. Однако глубинная, тесная и никогда не прерывающаяся связь с Новым Заветом — главное, что конституирует и единство русской культуры в целом. При изучении древнерусской словесности часто игнорируется само ее назначение: воцерковление человека. Церковный год, связанный с Пасхой и вытекающий из нее, утверждает конечную победу над смертью и придает тем самым осмысленность жизни каждого человека на пути его к Богу.
Однако пасхальный христоцентризм доминирует не только в древнерусской словесности, но и классической русской литературе. В литературе нового времени, в отличие от древнерусской словесности, он проявляется чаще не прямо, а опосредованно: авторской этической и эстетической ориентацией на новозаветный образ Спасителя. Отсюда отчасти понятны максималистские этические требования автора к герою литературного произведения русской классики, намного более строгие, нежели в западноевропейской того же исторического периода. Православно ориентированные русские писатели не желали (а может быть и не могли) уступать требованиям секуляризованной жизни. Да и сама секуляризация русской культуры — явление более позднее и не завершившееся и к концу XX века, если сравнить этот процесс с аналогичным в Западной Европе.
Поэтому в русской литературе так мало центральных героев, выдерживающих сопоставление, заданное древнерусской книжной традицией нравственной высотой. «Хороших» героев так мало именно потому, что в сознании (подсознании) автора всегда присутствует наилучший.
Постоянное ощущение несовершенства изображаемых персонажей, критицизм социальный и нравственный возникали при проецировании (вольном или невольном) жизни героя произведения на идеальную жизнь Спасителя, даже если таковая проекция и не осознавалась до конца самим автором произведения. Наложение христианского идеала во всей его православной полноте на реальную жизнь в России оттеняло неизбежную неполноту этой жизни.
Постоянная боязнь духовного несовершенства перед лицом идеальной Святой Руси, страх несоответствия низкой наличной данности этой высокой заданности делают все другие земные проблемы человеческой жизни — с этой точки зрения — второстепенными и не столь значительными. Отсюда постоянное стремление к постановке «проклятых вопросов» и разрешению последних проблем.
Оборотной же стороной духовного максимализма русской классической литературы является столь же полное и безусловное приятие Божьего мира. Перед Богом равны все — как рабы Его. Дистанция между грешниками и праведниками, конечно, имеется, но и те, и другие не достойны Его. Однако это же означает, что все достойны (не исключая и «маленького человека») жалости, любви и участия. Отсюда та не совсем понятная в иной ценностной системе координат любовь к убогим, нищим и каторжникам. Отсюда поразительная терпеливость и эстетизация этой терпеливости. Это художественное отражение любви к ближнему своему — при всем понимании его несовершенства.
Мы имеем дело с двунаправленной установкой, вмещающей в себя ориентацию на этический абсолют и столь же абсолютное приятие мира, каким он нам дан.
Описанную нами художественную установку можно обнаружить в произведениях авторов самой различной ориентации.
В «Слове о полку Игореве» пасхальность проявляет себя во финальной вселенской здравице живому князю Игорю и почившей дружине — совершенно, казалось бы, неуместная после одинокого возвращения героя. Однако это здравица как бы воскрешает и полк Игорев. Для Бога нет «мертвых». Молением князя Игоря в церкви святой Богородицы (оставшимся за пределами текста как подразумеваемое) безнадежное восклицание «А Игорева храбраго штыку не кресити» отменяется.
Исход князя Игоря в Половецкую землю изначально греховен, он начинается не с молитвы в храме, а с недоброго знамения. Значимое отсутствие всякого упоминания о православной церкви в начале похода и ее появление как итогового пункта исхода (места, где закончился поход полка Игоря) позволяет говорить об обретении в финале не только земной родины — Русской земли, но и родины небесной. В соборе, как вершине духовного пути, для христианина возможно реальное единение живых и почивших (в буквальном смысле соборное единение).
В гоголевской поэме, согласно замыслу автора, изображаемые в первом томе персонажи, будто бы имеющие «мертвые души», должны «ожить»; они на самом деле не потеряли надежды на прозрение, они могут быть спасены и вызволены из Ада. Основной эстетической задачей поэмы является художественное преодоление апостасии. Поэтому в финале горизонталь тела России («ровнем-гладнем разметнулась на полсвета»), преодолевая апостасию — в символе Руси-тройки, должна превратиться в соборную духовную вертикаль. Это превращение, изображенное в финале, и является тем «Божиим чудом», о котором восторженно говорит повествователь. Сам способ преодоления опирается на православную духовную традицию, согласно которой Русь, «вся вдохновенная Богом», оттого и является необходимым для мира «удерживающим», что вектор ее пути как Божий замысел о России («дают ей дорогу другие народы и государства») — идеал святости («святая Русь»).
Можно вспомнить и пасхальное ликование в «Братьях Карамазовых». Финал романа представляет собой изображение такого «всечеловеческого братства», которое — как и видение Алешей «Каны Галилейской» — выражает православный архетип торжествующего пасхального воскресения, преодолевающего физическую смерть отдельной личности. Отсюда и мотивы пасхального веселья и ликования в эпизодах, следующих за смертью почитаемого старца и мальчика Илюши.
В эпилоге можно усмотреть романную «формулу» соборного единства. Алеша говорит мальчикам: «всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце!» Чрезвычайно существенно, что «соединил» всех «в добром хорошем чувстве» христианской любви к ближнему («мы вас любим, мы вас любим.— подхватили все») именно покойный Илюша. Тем самым бессмысленная, на первый взгляд, смерть ребенка преображается в соборный пасхальный образ: «неужели… мы все встанем из мертвых и оживем и увидим друг друга, и всех, и Илюшечку?»…»Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было».
Если описание пасхальности в произведениях древнерусской словесности, а также Гоголя и Достоевского является для любого непредвзятого исследователя такой научной задачей, которая в принципе не вызывает внутреннего сопротивления, то другая линия развития русской литературы (представленная в своих вершинных проявлениях творчеством Салтыкова-Щедрина и Чернышевского), на первый взгляд, настолько маргинальна по отношению к магистральному вектору русской православной духовности и даже настолько далека от христианской традиции в целом, что всякие поиски в произведениях этих авторов даже малейших следов православной картины мира кажутся заведомо неосновательны.
Однако в наиболее «репрезентативном» для этого направления произведении — «Господах Головлевых» — герой, как и Родион Раскольников в «Преступлении и наказании» Достоевского, раскаивается в прожитой жизни в соответствии с православным годовым циклом: «Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу». В романе итоговые страсти человеческие не только автором, но и героем проецируются на страсти Господни, Центральный момент поэтики романа — возможность искупления вины героем и прощения его, связанное с этим искуплением. Прощение, несомненно состоявшееся в романе, имеет подчеркнуто новозаветный характер. Герой в финале впервые приближается к православному отношению к ближнему, только и позволяющему от «агонии раскаяния» за сутки до Христова Воскресения прийти к действительному, совершившемуся покаянию.
Практически мгновенное превращение Иудушки в Порфирия Владимирыча — минуя промежуточные ступени — свидетельствует о том, что пасхальное начало русской словесности проявляется порой и в вершинных произведениях тех отечественных авторов, которых принято относить к линии развития русской литературы, оппозиционной ее доминирующему христианскому вектору.
Можно сомневаться в окончательности «прозрения» салтыковского персонажа, памятуя о времени его смерти — в «шаге» от Воскресения Христова, за сутки до окончания страстной недели. Но нельзя не отметить и в этом случае саму стремительность, чудесность перехода. Мерцающий под видимой поверхностью «социального обличительства» православный строй русской словесности свидетельствует о том, что пасхальное начало в отечественной литературе обладает способностью «прорываться» в произведениях даже сквозь толщу совершенно чуждых ему напластований, может быть, и вне индивидуальной воли биографического автора — как заданный еще митрополитом Иларионом вектор русской духовности.
Литература неотделима от единой национальной культуры. Между православным типом культуры и художественным языком существует тесная связь, которую нельзя, конечно, абсолютизировать, но нельзя и недооценивать. Русская словесность в своем магистральном духовном векторе не противостояла многовековой русской христианской традиции, как это долгое время пытались доказать, но, напротив, вырастала из этой традиции, из русского пасхального архетипа и соборной идеи.
Глаголъ № 8 2002 г.
Православие.ру